Я из большой семьи, предпоследний, двенадцатый ребенок по рождению, у меня шесть братьев и шесть сестер, поэтому я все время был вовлечен в коллективное действие. Мне досталось гигантское количество любви ото всех, от мамы, конечно, а братья и сестры меня носили на руках. Меня поместили в изысканный интернат, где с первого класса преподавали художественное слово и английский в районе Севастопольской, в Зюзино. Мы на уроках природоведения ходили в близлежащий лесок на Лысую горку, вокруг росли яблоневые и вишневые сады, зимой дети катались с горки на лыжах. Мы ухаживали за яблонями, окапывали их в погожие весенние дни. У меня мать-героиня и это заведение были частью льгот от государства. У нас была квартира в большом доме на Площади Восстания, когда я родился, его только отстроили и мы туда переехали.

Отец у меня был партийный деятель, комиссарил все время на ответственных местах. Работал секретарем со Сталиным, когда у него заграницу убежал личный секретарь Бажанов. Отец работал секретарем у Кагановича, и когда Сталин остался без секретаря, ему пришлось откомандироваться по дружбе на несколько месяцев. Потом папа слился из ЦК подальше, сначала его отправили заграницу в Германию, поучиться по инженерной части. Он сам из Рязани и был ровесником века, закончил реальное училище по инженерной части, но по должности воодушевлял людей на трудовые подвиги. После Германии он поехал на Урал строить трубные заводы, они же артиллерийские. Моя мама 16го года рождения, сама из Каменск-Уральска, и когда они познакомились, она была вдвое младше его, что навлекло неприязнь к нему со стороны родни по матери – охмурил молодую девчонку. Кроме того, он приехал на Урал уже с двумя сыновьями, которым было тогда девять и одиннадцать лет. В результате все произошло, и мои старшие братья называли «мамой» мою будущую мать. Я родился в Москве и ездил на Урал всего один раз к своей бабушке перед тем, как пойти в школу.

Каменск-Уральский – это отличное место, я там наблюдал интересные феномены. Там есть запруженный каньон с речкой и плотиной с ГЭС, и провода электропередач проходят на уровне верха этого огромного оврага. Прямо на уровне глаз, перед собой я видел гигантское количество шаровых молний, которые завораживающе катались по этим проводам. Мне было тогда шесть лет и я ходил по окрестностям с дочками своих теток и чуть там не утонул, оступившись, меня спасла одна из этих девочек. Ездили и подальше по местам сказок Бажова, под Сысерть, ближе к Свердловску. На Урале я прочитал свои первые две книжки. Толстую книгу «Малыш» про мальчика, попавшего в оккупацию. Он тоже приехал на Урал и работал на заводе, который выпускал ракеты для «Катюш». Мальчик сколачивал ящики для снарядов и с одного удара вгонял гвоздики в дерево. Потом прочитал «Малыш и Карлсон» и просто офигел от безнравственности этого Карлсона с пропеллером, он мне показался чудовищем, произвел на меня отталкивающее впечатление и я его до сих пор терпеть не могу. Наш «Малыш» на меня произвел гораздо большее впечатление, и я сам мечтал научиться забивать гвозди с одного удара.

Вся моя родня рассказывает, что я в детстве был всегда удивительно сговорчивым, мало скандалил, так же в любви я пестую своих девчонок, у меня сейчас появилась третья дочка. Первой дочери уже 38 лет сейчас, у меня два внука, один, благодаря мне – реальный художник и в свои пятнадцать лет заканчивает художественную школу, участник выставок и имеет дипломы от Строгановки и Глазунова. Во мне в его годы только начинало брезжить какое-то желание стать художником, я и рисовать-то толком не умел. В нашей семье отец мой говорил, что: «Художники и артисты – это бездельники и развратники, ни в коем случае!». И я с ним в чем-то согласен, я много бездельничаю и с точки зрения простых обывателей – развратничаю. Мой отец спал, заваленный ворохом центральных газет, в основном – «Правдой», надо было обязательно прочитать передовицы перед сном. Он был лектором от общества «Знание», ездил и читал лекции о том, как строить правильно социализм, знал все решения съездов и действовал в духе этих решений, чтобы приводить их в жизнь.

Когда Хрущев пришел к власти, мой отец просто матерился и не мог равнодушно слышать фамилию этого гаденыша. Отец дружил с Кагановичем, и тот оберегал его от всяких неприятностей, главное было то, чтобы заводы строились. В ДнепроГЭСе отец создавал РабФак для рабочих, чтобы те получали технические специальности. А когда Хрущев пришел к власти, моего отца поставили комиссарить на железобетонный комбинат, чтобы массово производились панели, из которых строились хрущевки. Когда Хрущев из бараков и подвалов стал переселять народ в новостройки, отец ездил вдохновлять работников бетонного фронта.
Я бывал с ним на эти предприятиях, и помню, что это была очень грязная жуткая работа. Один из комбинатов соседствовал с мясокомбинатом, и там всегда стояла жуткая вонь. Чтобы взбодрить коллективы, на выходных, рано утром, отец по осени вывозил всех работников в лес по грибы на многих автобусах. На праздниках он выступал с зажигательной речью. Он был романтик-энтузиаст, дружил с Кагановичем до его смерти и умер позже Кагановича. Меня назвали в честь сына Кагановича, ведь отцы дружили по-человечески. Помню, мы заходили к Кагановичу, когда у него была персональная пенсия 60 рублей, а у моего отца была – 120 рублей. У Кагановича в доме правительства, «на набережной», было все казенное, мебель с пронумерованными бирками и чудовищные вазы – подарки от трудящихся.

Хрусталя в нашем доме было достаточно, и я провел часть своей жизни как «золотая молодежь», как сын могущественного человека. Среди друзей моего отца не было тех, кто выбирал себе мебель, шубы, посуду, картины, драгоценности на спецскладах конфискованного имущества у врагов народа, они их презирали. Мой отец после окончания войны был назначен вывозить из Германии заводы Инемюнда, где Браун строил ракеты для вермахта. Он служил полковником в Комитете по контрибуции и собирал эшелоны заводского оборудования и вывозил в СССР.

Потом он сильно подружился с космонавтами, и они его уважали за его энтузиазм. На его похоронах было много космонавтов, обычно космонавты после своих полетов работали инженерами, специалистами в отрасли строительства космодромов и пусковых установок. В его селе Ижевском, под Рязанью, родился Циолковский, и мой отец в начале 60х сделал там дом-музей Циолковского. Проложили асфальтовую дорогу и туда стали ездить рейсовые автобусы, и все односельчане были отцу сказочно благодарны. Он умер в 91м, когда здесь все это произошло, для него это был крах идей, на которые он всю жизнь положил. А для меня это было ощущение наступившей свободы, эта ночь, проведенная у Белого Дома, где было сплошное братание

В начале 92го я уехал в Америку. Ребята из группы «Парк Горького» пригласили меня туда, чтобы на месте сделать им обложку пластинки. Я увлекся в какой-то момент рисованием серпов и молотов и первый диск «Парка Горького», с которым они попали в хит-парад журнала «Billboard», был украшен серпом и молотом, для «Бригады С» я использовал тоже мотив серпа и молота.

Рисовать я начал после школы, хотя родители предполагали, что я буду каким-нибудь международным обозревателем, уже обладая знанием английского и испанского языков. Я ходил в школу молодого востоковеда два года при институте САА в девятом-десятом классе, занимался горными лыжами. В конце Мосфильмовской улицы, там, где построили посольство Монголии, у нашей лыжной секции был учебно-тренировочный склад, который мы осенью приводили в порядок. Там были ребята из молодежной сборной МГУ, перворазрядники и мастера, которые брали призы на международных универсиадах. Мы сами подсыпали горку и нарастили метров двадцать в высоту, сами сделали бугель (канат-подъемник), а воду для укрепления зимой носили в ведрах.

Я там был как сын полка, там же занимались взрослые, а мне было тринадцать, когда туда пошел. Моя сестра училась в МГУ на геологическом, и она позвала меня кататься с горы на настоящих деревянных лыжах в кожаных ботинках. За меня взялся тренер Мальцев, который очень красиво катался на горных лыжах, мне выдали лыжи, ботинки и отвели склончик метров десять. База была в подвале студенческого общежития на Ломоносовском проспекте, там мы бегали по стенкам, прыгали на батуте и смотрели фильмы про лучших горнолыжников. Мне доверяли, и однажды я договорился остаться после всех, пообещав, что докатаюсь и сам выключу прожектор и бугель, верну инвентарь на склад. И этим поздним вечером я упал и так долбанулся, получил такое сотрясение мозга, что меня потом комиссовали от армии по этой причине. По дороге домой меня тошнило, я весь изблевался, но как-то добрался – вместе с лыжами, в ботинках и в форме сел в троллейбус, доехал до Киевского вокзала и на метро до Краснопресненской, а дома лег даже не раздеваясь спать. Утром меня разбудила сестра и спрашивает: «Ты чего в школу не идешь? Почему ты не разделся?», а я лежу в кровати в куртке. Оказалось, что у меня открытый перелом ноги, и в поликлинику я пришел, как был, с меня все сняли, а там кровища и кость торчит и синяк на пол-лица. Полгода я приходил в себя и встал на лыжи опять года через два, потому что от этого отказаться было уже невозможно.
Потом, когда я уже начал работать оформителем, лет десять подряд я ездил в Домбай, и до сих пор у меня стоят лыжи и башмаки, только уже сделанные по современной супертехнологии. Этот случай помог мне не прослужить в армии. Я должен был поступать в институт Стран Азии и Африки после окончания Школы Молодого Востоковеда. Но я никуда не стал поступать после школы вообще. Мы тогда с друзьями шатались по улице Горького, «по стриту», от кафе к кафе. Школа моя была за кинотеатром «Октябрь», сначала «№103» (сейчас– «72я спец»), но я мечтал поступить в «59ю имени Гоголя», где прямо в фойе стоял памятник Гоголю, и там были гуманитарные классы, для физиков, для естественных наук, то есть школа была передовая. После интерната, по окончании пятого класса, встал выбор в какую школу идти и родители полагали, что я пойду в «20ю спец» на Вспольном переулке, но я пошел в «103ю».
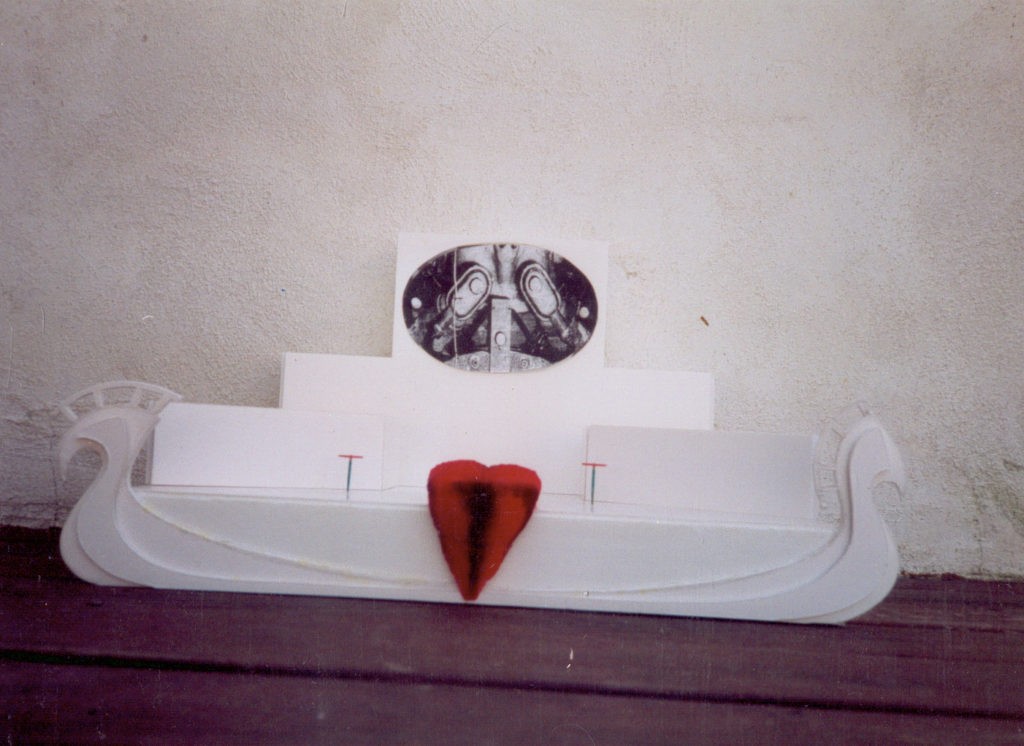
После нашего интерната в этой спецшколе я был просто королем, мне там дали прозвище «профессор», я реально лучше всех петрил во всем. В интернате у нас классы были маленькие, по двенадцать человек. Класс разбивался на две группы по шесть человек, и с каждой группой занимался преподаватель английского языка. Я ходил с разбухшими от записей тетрадями и самостоятельно разучивал неправильные глаголы. Это было образцовое заведение, сделанное по велению Фурцевой, туда возили всех иностранцев, чтобы продемонстрировать советскую школу. В 103ей учился со мной в параллельном классе Амаяк Акопян, в нашем классе был Игорь Кленов, который потом играл в группе «Воскресение» на бас-гитаре. Мы слушали новинки – «Битлз», была возможность практически сразу послушать с оригинала. Я носил джинсы и длинные волосы, но системные хиппи мне не нравились, слишком это неестественная, не наша культура. Это были либо фанаты из глухой деревни, добравшиеся до Москвы, либо дети генералов КГБ и тех лиц, которые имели отношение к источникам закрытой информации. В 1972м я заканчивал школу под «Дип Пепл» и «Эйси-Диси». Потом вдруг я услышал Фрэнка Заппу в тоже время приблизительно, и он на меня произвел мощное впечатление. Я понял, что музыку можно делать не на потребу толпе, а для себя.

И не стал никуда поступать, когда вообразил себе, что буду сидеть за такой же партой как в школе. По настоянию родственников через год после школы я устроился на работу в Центральный Телеграф, потому что он «на стриту». Я зашел в отдел кадров и спросил, не нужна ли там рабочая сила или знание английского. А они говорят: «А вот у нас есть замечательный новый участок, называется «TOR» («Teletype over the radio»)». Там оказался стол с пультом телетайпа и телетайпом, красивой суперсовременной машиной «Симменс». На этом пульте загораются лампочки: «Москва-Кремль», «Москва – Аддис Абеба», все кремлевские официальные связи обслуживались через этот телетайп. Участок находился за выгородкой в огромном цеху с кучей операторов связи.

Надо было следить, чтобы лампочки везде горели правильно, куда-то сходить и убедиться, что и там все лампочки горят верно, и в журнале записать что сделано. Если что-то не получалось, надо было выйти на связь с человеком, который сидит за тридевять земель по телетайпу и с ним уже переговорить. Тогда как раз играли наши хоккеисты с канадцами, играли по ночам, и я прямо ночью получал листы с описанием всего этого матча и первый узнавал счет. Там я продержался года два. У нас был главным инженером Лева Штэмбах, прекрасный человек, ему приходилось ездить в командировки, устанавливать оборудование в Кабуле, например, во время войны. Он решил взяться за меня, чтобы освоить физику, электронику, чтобы я начал понимать, что делаю.
Я при этом так зевал от недосыпа, что он предложил мне: «Ну, ладно, Юр! Давай, тогда сделай стенгазету!». В школе я уже писал плакатным пером изречения всех выдающихся мыслителей. В результате на конкурсе лучших стенных газет я оказался победителем. Ко мне пришли художники-оформители, которые работали у них в клубе и предложили: «Хочешь, у нас будешь работать? Оформлять наглядную агитацию!». Я с удовольствием взялся и погрузился в эту тему художников-оформителей. Бегал в магазин за колбасой в гастроном «Кишка» на «стриту» и за портвейном для мастеров дела в «Российские вина». Потом меня стали привлекать делать оформление иллюминации на Центральном Телеграфе. Иллюминация фасада была основной фишкой наших художников-оформителей, там ездили трактора и летали спутники. Моя сестра, геологиня, ходила с подругой в походы на Северный Урал, начиная с октября, когда там выпадал уже снег, они шли на Южный Урал с палаточками, она шефствовала надо мной и водила меня в лыжные зимние походы.
По праздникам мы с ней ходили по всей Москве и смотрели иллюминацию, причем финалом просмотра-любования была Тверская, Центральный Телеграф. И вот я сам в команде, которая делает эту иллюминацию, кроме того, появилась возможность подхалтурить – сделать, например, магазин.
По телефону появился человек Юрий Аксенов и предложил мне заняться плакатами, спросил насколько я готов делать для фотографий эстрадных артистов размером 60х90фоны и обрисовки, желательно аэрографом. Я быстренько научился работать аэрографом и занялся этим новым делом. Кроме меня плакаты делали молодые дерзкие ребята из Строгановки, из Полиграфического института. Берется фотография, вырезается по контуру, наклеивается на картон, сверху крепится на резиновый клей карандашная калька в виде маски и далее красками задувается фон. Потом стали появляться прозрачные самоклеющиеся пленочки, что сильно облегчило работу. В ходу были летросеты – наборы шрифтов для передавливания с пластиковых листов буковок для создания текстиков. Приложил, передавил, перетер буковку на бумагу – очень красиво получалось. Первая моя работа была – плакат Волжского народного хора, где множественные участники выходили из пены морской, все в кокошниках и в расшитых косоворотках.
Причем, еще без аэрографа, я изображал брызги мелким наброском зубной щеточкой. Юрий Аксенов был авантюристичный человек, полуфарцовщик-полуфотограф и он очень умело находил всякие пространства, в которых мы могли работать. Последняя наше место было в 80е, в Чистом переулке, под названием «Кобзонарий», потому что это была база Кобзона. В этом «Кобзонарии» сам Кобзон разрешил нам проработать несколько месяцев, и мы сделали ему серию красивых плакатов с модными американскими шрифтовыми разработками. Шрифтами мы глубоко заинтересовались, у нас появились книги и альбомы на эту интересную тему.
Когда для Розы Рымбаевой, симпатичной казашки со звонким голосом заказали шесть плакатов, мы сделали серию из двенадцати, и все как на подбор. Привезли их продавать в Алма-Ату, и на моих глазах Юрий вталкивал нашу работу местной филармонии. Пришлось им приглашать замминистра культуры и в результате нам одобрили всю серию. На радостях мы поехали с казахскими комсомольцами на горнолыжный курорт над Медео. Оказалось, что там живет мощная диаспора питерских, смещенных туда еще во время войны и осевших в Казахстане. Юрий Аксенов набожный человек с капустой в бороде, крестился на каждую церковь, постился, и общались мы с ним на «вы». Он настоял и всех некрещеных перекрестил, отводил в церковь и по очереди перекрестил половину московской интеллигенции. Когда тема с плакатами закончилась, он перешел на рисование софринских старцев.

Писал портреты попов на холсте маслом и переключил на это дело одного из наших плакатных работников Юрий Сидоренко, талантливого выпускника МАРХИ. В результате этот Юра Сидоренко уехал на Аляску в Форт Роз, старую крепость, в острог, в старинный русский монастырь и он там стал делать росписи и выпускать религиозные открытки для туристов. В результате своей деятельности Аксенов получил квартиру на верхнем этаже в Большевистком переулке и сделал там окна в пол, а с балкона одни церковные маковки видны. Далее я стал сотрудничать с Сергеем Борисовым, членом Горкома художников-графиков, который организовался из художников, которые в свое время устраивали бульдозерные выставки. Они обосновались в доме, где жил Высоцкий, Малая Грузинка, 28 и в подвале сделали Московский Горком художников-графиков, членом которого я позже стал. Там устраивались мощные выставки «20ка», «21» на которые очередь стояла до Зоопарка.
Звуковую среду там создавал Володя Чекасин, отличные были выставочки. Сергей Борисов – зажиточный фотограф с хорошей камерой и фирменной пленкой, делился опытом, как прихватывать разных чиновников, от которых зависит оплата работы, а это особое мастерство, включающее элементы мужского обаяния и террора. Мы стали с ним делать плакаты, он снимал, а делал макеты, например для группы «Диалог». Я чертил схемы, как нужно расставлять или укладывать музыкантов, чтобы в фотографии уже был заложен смысл, который мне потом надо было дорисовывать. У Борисова была отличная мастерская на Знаменке, в двух шагах от Кремля, туда ходили иностранцы, и он женился на дочери бельгийского посла. Борисов познакомился благодаря поездки в Питер с Гребенщиковым, Африкой и перешел на художественную и портретную фотографию и довольно много уже напечатал книг со своими фотографиями, причем фото группы «Диалог», где я попросил их уложить на асфальт вдоль дома, как будто бы они идут ногами по стене, кочует из альбома в альбом.
По вызову я поехал в США, чтобы сделать обложку для пластинки «Gorky Park». Когда я был в гостях в Лос-Анджелесе у «Парка Горького», к ним приехали люди из Сан-Диего, у которых я потом провел два года. Тогда они приехали покупать какой-то дорогой вокальный микрофон-микрофонище. У «Парка Горького» в тот момент была репетиция, и они равнодушно отнеслись к этим ребятам из Сан-Диего. А мне накануне приснились эти ребята, и это был зловещий сон, в котором я видел, как стоял в очереди в каком-то магазине и передо мной стоят два ангела, один брюнет, другой – блондин и о чем-то разговаривают. И вот, «Парк Горького» репетирует, я сижу, попиваю чаек, и тут приезжают эти ребята – персонажи из моего сна.
Я их стал поить чайком, развлекать, повел их в гараж, в свою мастерскую, стал показывать им свои картинки. Им все круто понравилось, и они пригласили приехать к ним в Сан-Диего. Через какое-то время приехал Витя Гинсбург и позвал к себе, в Холи Драйв. Чтобы попасть в Холи Драйв надо спуститься по Один стрит в переулок, это рощица у подножия Северного Голливуда, где селятся все местные интеллектуалы, гомосеки и творческие люди. Там в основном небольшие виллочки, постройки еще шестидесятых годов. У нас по соседству жили индейцы, которые снимались во всяких вестернах, здоровые медведообразные люди. У Вити Гинсбурга был двухэтажный домик, где первый этаж был сначала гаражом, но его переделали в студию ребята, которые прежде снимали этот домик.
Я жил как раз на первом этаже, и мы доделывали с Витьком монтаж фильма «Нескучный сад». Он начал этот фильм как режиссер и оператор, когда я еще находился в России. Мы не торопясь заканчиваем монтаж фильма, я делаю плакат к этому художественно-документальному полнометражному фильму. Плакат выглядел как большая икона, на котором была изображена Богоматерь с лицом молодой Кати Рыжиковой, у которой хитон был расрыт и открыта грудь, и одной рукой она держалась пальцами сосок, при этом над головой у нее был красный революционный нимб. Сцены из кино располагались по порядку следования сцен из жития. За нимбом была финальная сцена, где Катю Рыжикову закапывают в землю. Над этим плакатом в процессе его создания, я реально душевно надорвался, и когда мы закончили, я просто плакал в истерике. Все это рисовалось аэрографом, и это был долгий кропотливый тяжелый труд, я действительно устал, улегся у унитаза на первом этаже и просил: «Господи, забери меня отсюда!».
Это было морально-физическое истощение, у меня жутко болела голова. Именно в этот день приехали эти двое ангелов и забрали меня оттуда.. Я улегся к ним в «Эксплорер» в багажник и проснулся, когда мы уже проезжали улочку Пени Лэйн, в двух ста пятидесяти километрах от того места, где закончился этап моей жизни. Витя распечатал плакат и сделал премьерные показы на мощном кинофестивале «Сансет». Сан-Диего – самый старый город в Штатах, его основали еще испанцы 350 лет назад, в то время был уже почти миллионником. Если отъехать подальше от океана, то там начинаются холмы, место «Небеса», куда я и прибыл, в Хамул, в овраг, в каньон, на местность, где стала селиться тамошняя богема. Там поселились мои новые друзья, потому что это такое модное место.
Один из них оказался хозяином дома, а другой при нем очень модный серфер с пляжа, при том, что очень талантливый музыкант. Брюнета звали Блэйр Ламье, он оказался мистическим мастером, блондин оказался финских кровей со своими сдвигами по фазе на почве убийства отцом матери, у него было моднейшее жилище на пляже, и у местных серферов и он слыл отличным гитаристом. Он поразил меня тем, что все тексты Заппы, а они сложные, знал наизусть. С Фрэнком Заппой мы познакомились еще в Москве, у Стаса Намина и в другой раз он из аэропорта просил Стаса везти его в мою мастерскую, он ее называл Ваухаус.
Стас сам привел его ко мне в мастерскую в Зеленом Театре еще в первый визит Заппы в Москву в 1991м году и мы с ним подружились. В 1993м в Лос-Анжджелесе праздновался его день рождения и мы с «Парком Горького» приехали на эту вечеринку. У Заппы был прекрасный дом с бассейном в Малхолланде, прилепленный к скале, где он проживал с большой семьей, у него четверо детей, приятная жена толстушка-хиппушка. Помню, как звали сыновей: Ахмед, Двизл, которого так назвали по имени мизинца на ноге его мамы, помню прекрасную дочку Мун, которая делает потрясающих художественных кукол. На дне рождения кого только не было. и местные молодые интеллектуалы, Заппа познакомил нас с местными крутыми музыкантами – дуэтом «Элэвэн», при том, что только что прочитал метафизическую книгу «12». В дуэте были девушка и парень, причем девушка Наташа, русских кровей.
На вечеринке устроили прослушивание последнего альбом Заппы для высоколобых сотрудников и друзей, «Civilization Phaze 3» в его студии, где вся стена была уставлена материалами его записей. Записи для фильмов, альбомов аккуратно расставлены по полочкам. Потом публика стала расходится, и мы с Фрэнком оказались наедине в небольшом закуточке с аквариумом и плавающими экзотическими рыбами. Он меня тормозит и говорит: «Юр, сделай мне обложку!». «Но, учти, что врачи мне сказали, что я доживаю свой век, мне немного осталось, полгода». Так оно и случилось… В Сан-Диего я познакомился с компьютерным гением Кевином Толером, у него были компьютеры, и он приехал к Вите Гинзбургу со своими машинами, было очень интересно, мы начали генерировать обложку по мотивам Босха: какие-то фантасмагорические люди в лодках и на горизонте – извержение вулкана. Я начал рисовать это извержение, и вдруг земля закачалась, и началось землетрясение. Приятель Кевин Толер бросился на свои Макинтшные мониторы, которые ужасно закачались, спасать имущество, а я, как прописано, пошел к дверному косяку.
Иду, а земля качается под ногами, какая-то мощная тревога, причем дверь, к которой я пошел, выходила во дворик с красным асфальтом, за которым на горке жил Клинт Иствуд собственной персоной и разводил помидоры, которые воровал Витя Гинсбург, перелезая через заборчик, тоже большой любитель помидор. И прямо на моих глазах по красному асфальту появляется во всей красе огромная трещина. Тряхнуло быстро, но здорово, у них разрушилось 96 тысяч построек, попадали эстакады. После этого события я с какими-то идеями и эскизами приехал к Фрэнку, и он мне сказал, посмотрев: «Юр, это не то!”, напоминает обложку альбома «Black Sabbath». И я затеял новое, придумал гору Джамалунгму, на вершине которой стоит рояль, из рояля пышет пламя, но к этому роялю не подобраться никак, только на вертолете подлететь, а внизу – небоскребы, гигантские постройки.
Когда Заппа увидел, то сказал: «Вот это круто! Давай так сделаем!». Причем, через охрану в его доме меня пропускали, а Витю, который явился вместе со мной, не пустили, пришлось ему подождать. Это оформление я делал в гараже у Вити Гинзбурга на Холидрайв, и у него был пес Нелсон, метис питбуля и поинтера, очень похожий на пса из известного американского фильма 30х годов про беспризорников. Нелсон забегал к Клинту Иствуду на гору и к соседу, который занимался педофилическими съемками под эгидой агенства «Young Stars», заманивал маленьких девочек и снимал порно. Пес забежал к нему, тот видно, стал его пугать, Нелсон стал на него лаять и тот вызвал полицию. К нам приехали «Animal Control» с полисменами, пес выбежал на них лаять, и они в него стали стрелять боевым, но промахнулись, а потом стали искать свои пулю, не нашли, я ее нашел после и привесил Нелсону на ошейник на счастье. Пуля прострелила гаражную дверь и ударилась о банку с кинопленкой, я увидел эту вмятину и просчитал, куда она должна была отскочить и достал ее из деревянных перегородок. Альбом Заппы с моим оформлением вышел в 1993м и Фрэнк умер в 1993м. В 1996м этому альбому присудили «Грэмми» за оформление. Средства перечислили в фонд Фрэнка Заппы. При жизни Фрэнк Заппа выпустил 59 дисков.
В Холидрайв местность гористая, мы жили внизу, а вверх вела дорога под крутым уклоном, таким, что только дорогая машина может влезть. Наверху располагаются виллы всяких кинозвезд, каждый дом – отдельное произведение. По этим крутым дорожкам, мы с приятелем Гермесом Зайготом, у которого я пожил в съемной квартирке в Лос-Анджелесе, мы забирались наверх, любовались видами, курили, играли на флейтах и, счастливые, спускались вниз. Идти вниз было еще тяжелее, уж очень крутой спуск. С Гермесом (Кириллом Дыжиным, которому мы придумали новое имя по словарю), мы подружились, и он приезжал ко мне, я научил его живописи, зря время мы не теряли. Его красивая жена Илия была из семейства сомосов, из Никарагуа и она тоже увлеклась живописью. Ее воспитывала ее бабушка в то время, как мать жила отдельно с самым известным марьячо (уличным музыкантом) Лос-Анджелеса. Бабушка помогала русским эмигрантам во время второй мировой войны и таскала им мясо с мясокомбината, на котором работала. Во имя любви к русским она читала в подлиннике Достоевского и Льва Толстого.
Илия влюбилась в Гермеса и стала его женой, когда я поселился у них жить, она постепенно из преподавательницы начальных классов в престижной школе стала художницей и пошла работать в художественный салон, торговать красками, карандашами, холстами и бумагой. Я зарабатывал тогда росписями стен и потолков в богатых домах, а также разрисовывал ящики для игрушек, там это традиционно культовые объект. Работать приходилось в их маленькой квартирке, которая была в конце Голливудского бульвара, где чуть левее находится русская православная церковь. Это было нереально сказочное пребывание!
В Холидрайв на подходе к крутому подъему стоял загадочный дом в виде квадратной постройки, с коридором, который ведет к внутреннему дворику, куда я мечтал попасть. И вот мы решились туда зайти и там, в этом коридоре, который вел к бассейну и клумбам с лилиями, в тени увидели лежащего человека с фотоаппаратом, во всем черном и в шляпе. При этом он фотографировал черную кошку, которая позировала в освещенном квадрате. Познакомились с этим парнем и, оказалось, что он – кинорежиссер. Он пригласил нас в свою мастерскую, которая находилась на крыше этой постройки и оказалось, что эту мастерскую построила себе Блаватская и жила там в начале двадцатого века.
Пол и купол этой постройки усеян звездами, а наш новый друг оказался испанцем, который жил несколько лет у Сальвадором Дали, в его мастерской, и снимал чудесные эротические фильмы. Там мы познакомились с девушкой Эйриал Волф, которая снималась в этих фильмах. В Канаде принято устраивать охоту на волков с вертолета, и называется это «эйриал волф». Нам показали фильм, который они сняли на пленку, спроецировав его прямо на очень неровно отштукатуренную стенку. Черно-белый фильм про маньяка, который изнасиловал кучу девчонок и про то, как они ему отомстили, поймали его и издевались над ним пока он не сдох. У режиссера, прошедшего школу Сальвадора Дали все женские образы были словно мраморные скульптуры, как музейные экспонаты-изваяния. Потом мы отправились восвояси, Гермес подарил мне тибетскую чашу, на которой никто не умел играть, мы стали по-всякому пробовать, а по вечерам ходили на всякие сходки. Однажды возвращаемся и находим у дверей поляроидное фото этой девушки в кепке «Алькатрац» и с надписью на обороте: «Как жаль, что я вас не застала!» и рисунком свастики в магендовиде, именно как я обожаю!
Один дедушка тогда попросил нарисовать воздушный бой времен второй мировой войны английских самолетов с немецкими, на ящике, сделанном из деревянных реек, и я сидел, рисовал до утра небо и самолетики со знаками отличия. Кропотливая работа, после надо было покрыть рисунок акриловым лаком, и я засиделся до утра, вдруг скрипнула калитка, зацокали каблучки…
Я открываю дверь, а там стоит эта девушка Эйриал с обожженными кислотой красными ноздрями и я ее обогрел, напоил чаем, погладил по головке.
Так в Америке, после четырех лет целибатства, от которого у меня появилось особенное, чистое восприятия мира и отношений, у меня появилась обалденная девушка, в которую я влюбился, и она в меня влюбилась. Кинозвезда, прославилась в культовом кино с вампирами, прозвездила кучу денег, купила себе дом в модном месте, дорогой автомобиль и начала прокуривать и пронюхивать все свое состояние. Но у нее IQ оказался круче, чем у самого гениального мужика, она владела множеством диалектов, что для кино просто находка. Кроме того именно тогда стали открываться комиссионки с винтажными модными вещами, где она покупала вещи и выглядела необычней, круче и ярче всех на улице. Все автобусные остановки в Лос-Анджелесе были увешаны плакатами с ее изображением, она была моделью для модного стилиста-парикмахера. Мы с ней задружились, а у меня в России жена и двое детей.
И я подумал, что это – засада, надо срочно валить из Штатов. Я планировал совсем другое, – чтобы жена и дети поселилась со мной в этом райском месте, и они меня ждали. У меня продалась картина под названием «Сальвадор сбрил усы», где была изображена масса из женских интимных мест, рук и ног и обрезки усов. На вырученные деньги удалось купить билет до Москвы. Так что вместе с моим отъездом мы с Эйриал расстались. Она потом стала сначала любовницей одного моего друга, потом другого моего друга и вписалась в тусовку по борьбе за легализацию марихуаны в медицинских целях, которой руководил мой приятель, Тод Мак Кормик, родом из зажиточной семьи из Лонг-Айленда. Ему в возрасте девяти лет десять консилиумов поставили диагноз «рак кости» и приговорили к смерти, а один из докторов сказал: «Дайте ему покурить марихуаны, чтобы он ел хорошо!». И он выздоровел, закончил университет, стал специалистом по «альтернативной экономике» и начал заниматься выращиванием марихуаны, и стал рассылать ее всем больным раком. Каждый его визит на почту с посылкой обставлялся приходом полиции, они снимали его на камеру и показывали в новостях, и он стал героем.

Мы придумали с ним «Клуб любителей марихуаны», он снял домик у моих друзей в Сан-Диего, из тех помещений, которые они сдавали студентам Университета. В клубе каждый завел себе растение, которые посадили и выращивали в специально отведенной комнате в большом шкафу. В других комнатах в плошках стояли отборные семена, которые можно было есть как семечки. На кухне мы пекли хемпбургеры, смалывали семена в массу, потом лепили из них котлетки и запекали в печи, которые поедали, положив между двумя кусками хлеба, как любят американцы. Эти семена просто спасали от голода, питали и никакого другого эффекта не производили. В клуб приходили пацаны по двенадцать-тринадцать лет с общими тетрадями и писали конспекты и рефераты на тему марихуаны, при этом даже не курили, просто интересовались предметом. А потом, когда созрел урожай, пришли полицейские. Все повыдергали, свалили в кучу и увезли уничтожать. Все члены клуба плакали, и пацаны, и взрослые, но это была борьба. Потом, когда я уже уехал, Тод МакКормик снял в Беверли Хилс замок между домом Элизабет Тэйлор и Рейгана. Настоящий замок с воротами и гербом на воротах, куда они с Гермесом вставили изображение марихуаны. Туда приходили Джек Николсон, Вуди Хейдельсон, и всякие другие, в результате это был элитный изысканный клуб, где процветала тема курения марихуаны.
И Гермес там работал садовником, выращивал большую плантацию, около двух тысяч кустов, вот туда как раз пристроилась Эйриал и продвинула свой музыкальный проект под названием «Swing Set», чем-то похожий на «Blondie». Когда созрел урожай, все произошло как в кино: прилетели вертолеты, примчались десятки спецавтомобилей, полицейские в касках с фонариками ворвались внутрь замка и обнаружили там Гермеса с красной бородой и с зелеными волосами. Арестовали его, стали сажать их с Тодом в тюрьму, в «Лос-Анджелес Таймс» скандал – «двадцать семь миллионов по нынешним ценам», так оценили урожай. Их посадили в тюрьму, но за Тода МакКормика вступились местные адвокаты и выкупили его за двести тысяч, а Гермеса выкупили за сорок те самые музыканты «Eleven», с которыми меня познакомил Фрэнк Заппа. Потом Тодд с Гермесом год писали в пробирки и не могли курить. Позже Гермес вернулся в Россию, а МакКормик довел свое дело до конца – марихуану в Лос-Анджелесе и в Калифорнии легализовали.
ДЛЯ SPECIALRADIO.RU
2017 Москва март апрель
Материал подготовил Игорь Шапошников
Добавить комментарий