У меня была очень тесная связь с родителями на протяжении всей их жизни, а также с обеими бабушками – дедушки-то ни одного не осталось ко времени моего рождения, а родилась я в 1940 году, 6 апреля. Мои родители настолько сильно были связаны с историей страны, что одно от другого отделить нельзя. У них очень разные судьбы и очень характерные для истории нашего Отечества. Мама родилась в 1912 году, папа родился в 1910 – у них два года разницы. Семьи их были совершенно разные. Мама родилась в очень интеллигентной семье потомственных врачей. По линии её мамы это были в основном невропатологи, психиатры, стоматологи. Были среди них и очень известные – один из них был главным невропатологом Казани, мы у него жили в эвакуации во время Второй мировой войны. По линии маминого папы в основном были микробиологи, среди которых был мой дедушка, который умер до моего рождения – он очень тесно работал с Мечниковым. Они разрабатывали вакцины против чумы, холеры и оспы, в общем, очень успешно. Мечников, кстати, пишет о нём в своих мемуарах.

Мама провела детство и молодость в Самаре, где получила музыкальное образование, окончила музыкальную школу, тогда там была очень хорошая педагогическая база. Но, в то время страна требовала других профессий, и мама по зову страны решила поступать на экономический факультет. До этого мама собственными глазами много раз видела работу её отца врача, который был во время Первой мировой войны начальником санитарного поезда, перевозившего раненых. Мама, ей тогда было года три, вместе с бабушкой ездили этим поездом с ранеными. Маленькая мама пела и танцевала для раненых, и запомнила эти события на всю жизнь.
На экономическом факультете Казанского университета, куда поступила мама, она повстречала моего отца. Но папа мой — это совсем другая судьба. Если мама из интеллигентной семьи, то папа из Чистопольского детдома. Город Чистополь — это маленький город, где моя бабушка в свои 30 с небольшим лет осталась вдовой с шестью детьми на руках (замуж она вышла в 17 лет). Поскольку прокормить всех она была не в силах, то старших – дочь Раису и сына Геннадия – моего папу, она сразу отдала в чистопольский детдом. После детдома мой папа поступил в Казанский университет. Он явился в Казань, имея одни ботинки на все четыре времени года, и поселился в общежитии университета.

В Казанском университете он познакомился с чудесной компанией, где в числе прочих был Павел Краснов – очень перспективный экономист, судьба которого сложилась впоследствии трагически. Вот там, в Казанском университете, они повстречались с мамой – встретились два мира. Во-первых, мама была необыкновенно хороша собой: у неё были две толстенные косы, которые спускались ниже колен. Так вот в том общежитии папа, его приятели, Пашка Краснов и вообще вся эта компания, они ей наговорили, что косы – это мелкобуржуазный предрассудок, и мама срезала себе косы, надев красную косынку. Также мелкобуржуазным предрассудком называли и пианино, которое стояло в доме родственников моей мамы.
Мама много рассказывала о жизни в их общежитии. В комнате, где жили мой папа и Пашка, была оловянная кружка, прикованная цепями к ножке железной кровати, а то могли ведь и увести эту кружку. Однажды они заметили, что сахар исчезает, и позже нашли его под железной кроватью – туда его выносили крысы. Сахар у крыс был изъят и пущен в потребление. Конечно, мама не рассказывала такие истории в своем доме, в доме медиков.
Несмотря на все препятствия, папа всё-таки был введен в дом мамы, и они очень рано поженились. То было время, когда думали, что браки свободны, и мама мне потом говорила, что она в те годы меньше всего предполагала, что проживет долго с одним человеком, настолько свободными тогда были нравы. В итоге, они прожили 60 счастливейших лет. Зарегистрировались они гораздо позже, потому что регистрация тоже считалась мелкобуржуазным предрассудком, поэтому я родилась вне брака, и только после рождения моей младшей сестры, а это был уже 46-й год, из домового комитета к моей маме пришли с предложением помощи матери-одиночке, и вот тогда родителям стало неудобно, и они всё-таки расписались. Но это всё было потом. А после Казанского университета они переехали в Москву в так называемый Институт планового хозяйства при Госплане и стали его аспирантами.
Папа был очень талантливый человек, как и все дети моей бабушки. Его старшая сестра, тоже побывавшая в детдоме, стала директором школы беспризорников, а их много было тогда. Детдом был большой, в каждом классе было по 44 ребенка. В общем, каждый нашёл своё место. Папа защитил сначала кандидатскую диссертацию, а позже – докторскую диссертацию, и стал едва ли не самым молодым доктором наук в то время. Мама докторскую защитила позже, потому что сначала родилась я, а потом началась война.
Я не помню, конечно, своих младенческих лет. Мы жили в коммунальной квартире, я росла одновременно с Венькой Смеховым, нашим замечательным актером, потому что отец Вениамина Смехова был очень крупный экономист, и тоже был в аспирантуре этого Института планового хозяйства, и они с моим отцом вместе работали и были очень дружны. Там же жил Володарский, брат революционера. В общем, в этих коммунальных квартирах была чрезвычайно интересная компания. Но началась война.
Как мне рассказывала мама, папа сразу после того, как прозвучало сообщение от советского Информбюро, пошел в военкомат записываться добровольцем. У него была очень сильное плоскостопие (кто в детском доме вообще об этом особенно задумывался?), а кроме того, у него была очень сильная близорукость, и ещё осложнение на сердце после перенесённой в детдоме свинки. В общем, его забраковали, и он остался в Москве. Всю войну прожил в Москве, работая в Госплане. Ночи, как и все москвичи тогда, проводил на крышах, тушил «зажигалки» – как тогда называли зажигательные бомбы. Нас троих, то есть маму, маленькую меня и мамину маму – мою бабушку, отправили в эвакуацию.
Из того путешествия я очень хорошо запомнила жуткую тесноту в вагоне поезда, и у меня надолго, как мама мне потом рассказывала, оставался страх перед скоплением людей. Ехали мы трудно – поезд бомбили, но мы как-то доехали до Казани, и обосновались в ее пригороде, где было озеро Глубокое, рядом с которым мы жили. С тех пор я хорошо разбираюсь во всех грибах, потому что там были очень грибные леса. Бабушка вставала ещё затемно, и мы шли с ней в лес собирать грибы — это была основная еда, потому что вокруг царил голод.

Глубокое озеро было действительно очень глубоким, и начиная с двух лет мама меня как котенка бросала в воду, и на всю жизнь научила меня плавать так, что я с той поры одинаково хорошо передвигаюсь что по воде, что по земле. Мама – волжанка из Самары и переплывала Волгу под Сталинградом тогдашним, туда-обратно заплывы делала. Папа тоже плавал как дельфин, вот и я это качество унаследовала.
В общем, жили мы там. Мама работала в татарской конторе Госбанка. Она вообще была специалистом по банковскому делу, у неё потом и кандидатская была по банкам. Когда мы вернулись в 44-м году в Москву, и я первый раз переступила порог нашей коммунальной квартиры, то запомнила, как на столе стояла вазочка, в которой были конфеты и печенье. Я не могла поверить, что это реально, потому что в годы эвакуации такие вещи ценились дороже всего; подумав, что этого просто не может быть, я отошла от стола. Потом мне объяснили, что это все – на самом деле, и конфеты даже можно есть.
Наш дом стоял на улице Щепкина, тогда это была Третья Мещанская, дом 30 — это параллельно нынешнему Проспекту Мира. Через Первую Мещанскую, которая сегодня называется Проспект Мира, мы ходили гулять в сад, он и сейчас там есть. Когда я взрослая проезжала мимо – увидела, что этот садик очень небольшой, а в то время он мне казался громадным. В том саду гуляли группы детей с руководительницами, как тогда называли воспитательниц.
Руководительница группы, которую выбрала мама (не знаю по каким причинам, может быть, ей кто-то её посоветовал), была выпускницей Смольного института – такая Мария Михайловна, с очень громкой фамилией. Могу, конечно, ошибиться, но, по-моему, Оболенская. Как многие смолянки, выходцы из обедневших дворянских семей, она окончила ещё фребелевские курсы. Фребелевские курсы — это были курсы для молодых, окончивших Смольный институт девиц, которые предназначались на работу гувернантками в семьи с маленькими детьми – их называли «фребелички». Вот и моя Марья Михайловна была смолянка-фребеличка. Меня отводили туда рано утром. Нас было там восемь или десять человек в группе. Мы там гуляли, Марья Михайловна разговаривала с нами, но не только по-русски: она говорила день на немецком, день на французском. Мы были маленькие, и это воспринималось нами как само собой. Как впоследствии говорил наш ближайший сосед по квартире Корней Иванович Чуковский, все дети – гениальные лингвисты от двух до пяти.
Так вот, мы гуляли, чем-то занимались, потом обедали по очереди у родителей каждого ребёнка дома, жили-то все рядом. Сегодня обедали у нас, в другой день обедали в другой семье. У нас были чудесные занятия ритмикой, пением с Анжеликой Александровной Кощеевой, в прошлом ученицей Александра Борисовича Гольденвейзера — всё это оказалось тем мостом, который привёл меня в Центральную музыкальную школу.
Мои прогулки в саду продолжались вплоть до семи лет. На всю жизнь осталось то, что нам внушала Марья Михайловна. Она никогда не повышала голоса, и у неё на всю жизнь я научилась разговаривать одним и тем же тоном и со швейцаром, и с президентом. Марья Михайловна научила прямо держать спину. Меня потом спрашивали, как вы так держитесь на сцене? А Марья Михайловна, если только я начинала зевать, сразу ставила линейку между локтями. Да, да, вот так учили смолянок. У нас всегда был очень насыщенный день, Мария Михайловна не давала спуску: мы читали, учили стихи, чего только мы с ней не делали – и всё без перерыва.

Наступило время поступать в школу, и вот в 1947 году проявилось последствие эвакуации: я боялась толпы. Оказавшись в классе, мне стало физически плохо. Во всех школах тогда были переполненные классы – по сорок с лишним детей с кричащими на них педагогами. Сначала мои родители считали, что это моя прихоть и баловство. Но одна умная врач сказала моим родителям – нет, пусть она год побудет дома, пожалейте её.
Меня из школы забрали. Но наказали. Наказали так, что я на всю жизнь запомнила. В 47-м году было празднование 800-летия Москвы. По этому случаю темная и мрачная Москва вдруг озарилась иллюминацией, которую развесили по случаю празднования. Это было чудо – всё горело, мигало, были салюты – красота. И вот все поехали это смотреть, а меня оставили дома в наказание, и я это запомнила, потому что я тогда так размышляла: следующее такое празднество будет только через сто лет, когда Москве будет девятьсот, а до него я вряд ли доживу. Эта мысль очень печалила мой детский ум.
Тот год я занималась с Анжеликой Александровной Кащеевой, и она привела меня на экзамен в Центральную музыкальную школу. Папе мы ничего не говорили, потому что музыкант — это, извините, не профессия, поскольку она ничего не производит для страны. Своё отношение, причем довольно резко, папа переменил гораздо позже, когда он очень поддерживал нас с Александром Георгиевичем. А тогда привела меня Анжелика Александровна в ЦМШ, и мы сразу с ней попали на предварительный отбор, причём интересно, что в первый класс было всего четыре свободных места, потому что ещё было два приготовительных класса, о которых мы просто не знали.
Конечно, у тех, кто учился в подготовительных классах, было преимущество, потому что они были подготовлены к экзамену в первый класс гораздо лучше – они занимались с теми же педагогами, которые потом будут их принимать и с ними заниматься, они знали требования, я же ничего этого не знала. Помню, что принимала Людмила Петровна Фокина, незабвенная — это заведующая теоретическим отделением. Незабвенная потому, что мы подружились потом – и не рассказать как. Дальше Мария Леоновна Шабодаш, прекрасный хормейстер. В общем, принимали нас ведущие педагоги ЦМШ.
Мне дали послушать несколько аккордов. У меня – ненормальный абсолютный слух, что, кстати, в жизни мне часто мешало, потому что любая фальшь для меня – как удар по голове. Я им сразу объяснила, какие это звуки, объяснила, что рояль плохо настроенный, потому что октава не строит, как сейчас, помню. Дальше собеседование пошло как-то само собой, и я быстро поняла, что вот тут я точно не пропаду. На эти четыре места со мной поступали люди с очень громкими фамилиями: Козловская, Тарханова внучка (она, поступила, но потом долго учиться не смогла). На их фоне я выглядела безродной сиротой, но при этом меня взяли. По сути, это было именно так: меня привели с улицы, и я стала учиться, и это оказалось моё место. Позднее я им принесла свои сочинения, и в итоге по композиции нас консультировал не больше не меньше, как Виссарион Яковлевич Шабалин.

Конечно, нам повезло – какие у нас были педагоги! Нас было 12 человек в классе, и все дети были не просто из приличных семей, а из творческих. В то время в Центральную музыкальную школу, как пчёлы на мёд, слетелись педагоги со старой классической гимназической школой – выходцы из классических русских гимназий: математику нам преподавала Вера Николаевна Вяльцева – дочка автора учебника Шапошникова и Вяльцева; Лидия Игнатьевна Громан – математик, тоже кончившая гимназию; незабвенный физик – Палеолог Георгий Дмитриевич. Все были с детьми на «вы» – с нами обращались как со взрослыми. Не помню, чтобы кто-то из преподавателей повышал на детей голос. Мы очень много работали в классе, потому что эти педагоги считались с нашей профессиональной нагрузкой. Когда были зачёты по специальности, как тогда это называлось, то есть, когда мы играли, мы могли не посещать школу, и это было в порядке вещей.
Вся система преподавания Центральной музыкальной школы была устроена на высочайшем уровне. Насколько я понимаю, хотя, её основателем считается Александр Борисович Гольденвейзер, основы такой системы в виде синтеза общеобразовательных и музыкальных дисциплин, заложил Николай Григорьевич Рубинштейн, потому что в консерватории Москвы, которая была им организована в 1866 году, очень большое значение придавалось музыкально-образовательным дисциплинам, и там сразу было организовано младшее отделение, потому что до 1866 года в стране не было специализированных музыкальных школ. Николай Григорьевич вынужден был принимать и маленьких способных, и взрослых, всех – и учить их с нуля. Вот тогда и сложилась эта система: младшее отделение, среднее, старшее, и с тех пор это всё и пошло, и ЦМШ великолепно продолжала эти традиции.
Музыкально-теоретические дисциплины у нас вел Юрий Николаевич Холопов – крупнейший наш музыкальный теоретик, который вёл эту же дисциплину в консерватории. Также преподавали замечательные музыканты – Яков Флиэр, Лев Оборин – все они имели учеников в ЦМШ. Леонид Борисович Коган, у того тоже большой класс в ЦМШ. Эта преемственность из ЦМШ вела прямиком молодых музыкантов наверх – в консерваторию.

После восьмого класса был очень серьезный конкурс, и надо было решать либо ты идешь дальше в ЦМШ, но ты продолжаешь изучать физику, математику, химию, и получаешь такой диплом, который позволяет тебе поступать не только в музыкальное учреждение, но и куда угодно. Экзамены принимали педагоги других школ Москвы, своих не было в комиссии, так вот эти другие, абсолютно не знающие нас педагоги, мне предлагали поступить в Университет на мехмат без экзамена со всеми отличными оценками.
Если ты шел на вторую ступень, то есть в музыкальное училище, то там из предметов уходила физика, математика, и прибавлялась музыкальная педагогика, то есть ты обрекал себя на музыкальную специальность, но получал, как в техникуме, диплом, который давал тебе возможность работать: можно было преподавать в младших классах школы или даже не в младших, точно не знаю, но это уже была дорога только музыкальная, музыковедческая и так далее.
Итак, я окончила Центральную музыкальную школу. В годы, когда я её заканчивала, старые педагоги стали один за другим уходить в лучший мир. Мы их провожали, а на их место стали приходить новые педагоги – уже совсем другой формации, которые обращались к нам на «ты». Не скажу, что это было плохо. Нет. К нам пришел вести историю такой Клеванский, который потом стал не больше, не меньше академиком. То чудесные были педагоги, но уже другие.
В 58-м году, когда я закончила школу, я повзрослела, и кругом общения лет моего отрочества был круг моих родителей, с чем, я считаю, мне повезло. Во-первых, я успела подробно пообщаться с делателями революции. У папы в институте экономики работала Марина Усиевич, дочь Елены Феликсовны Усиевич и внучка Феликса Кона. С Еленой Феликсовной Усиевич я успела очень много пообщаться. Она лежала дома, уже слабенькая, в квартире в известном доме на набережной. Стены большой квартиры сплошняком были уставлены книгами. И вот я подошла к этой седенькой старушке в кровати: «Здравствуйте, Елена Феликсовна», сказала я, «может быть, вам что-то почитать, может быть, вам что-то принести? У нас дома тоже есть много книг». Старушка смерила меня глазами снизу вверх, потом сверху вниз, и спросила, – «А что у вас есть?» Я поняла, что я попала «не туда». Потом уже я узнала, что эта старушка — основатель журнала «Литкритика», который позже стал «Иностранной литературой». Она туда писала, и очень много чего там было ею сделано. После того случая я стала часто бывать в доме Усиевич.
Там всегда присутствовал такой Дворцовский, всегда приезжали какие-то очень интересные польские писатели, часто бывал один из самых читаемых марксистов Михаил Александрович Лифшиц, автор книги «Кризис безобразия», я её потом чуть не наизусть выучила. Какие разговоры там велись! Я, конечно, сидела тихо в углу, и всё это впитывала. Это была одна сторона общения.
Другая сторона происходила у нас дома за столом. У папы был учитель, Станислав Густавович Струмилин, академик, экономист – огромного роста мужчина, он приезжал ко мне уже когда ему было за 90, потому что он был страстным шуманистом – безумно любил Шумана, приезжал ко мне его слушать. Поразительный был человек. Именно в его огромной квартире он вместе с тогда уже покойной женой Софьей Петровной – отмыли, вылечили, выкормили и дали образование двадцати одному беспризорнику. Ну, не в одно время, а по семь – по восемь человек их жило, сколько помещалось в квартире. Просто я потом помню, как бывшие беспризорники съезжались на дни рождения Станислава Густавовича: это были врачи, ученые, интереснейшие люди.
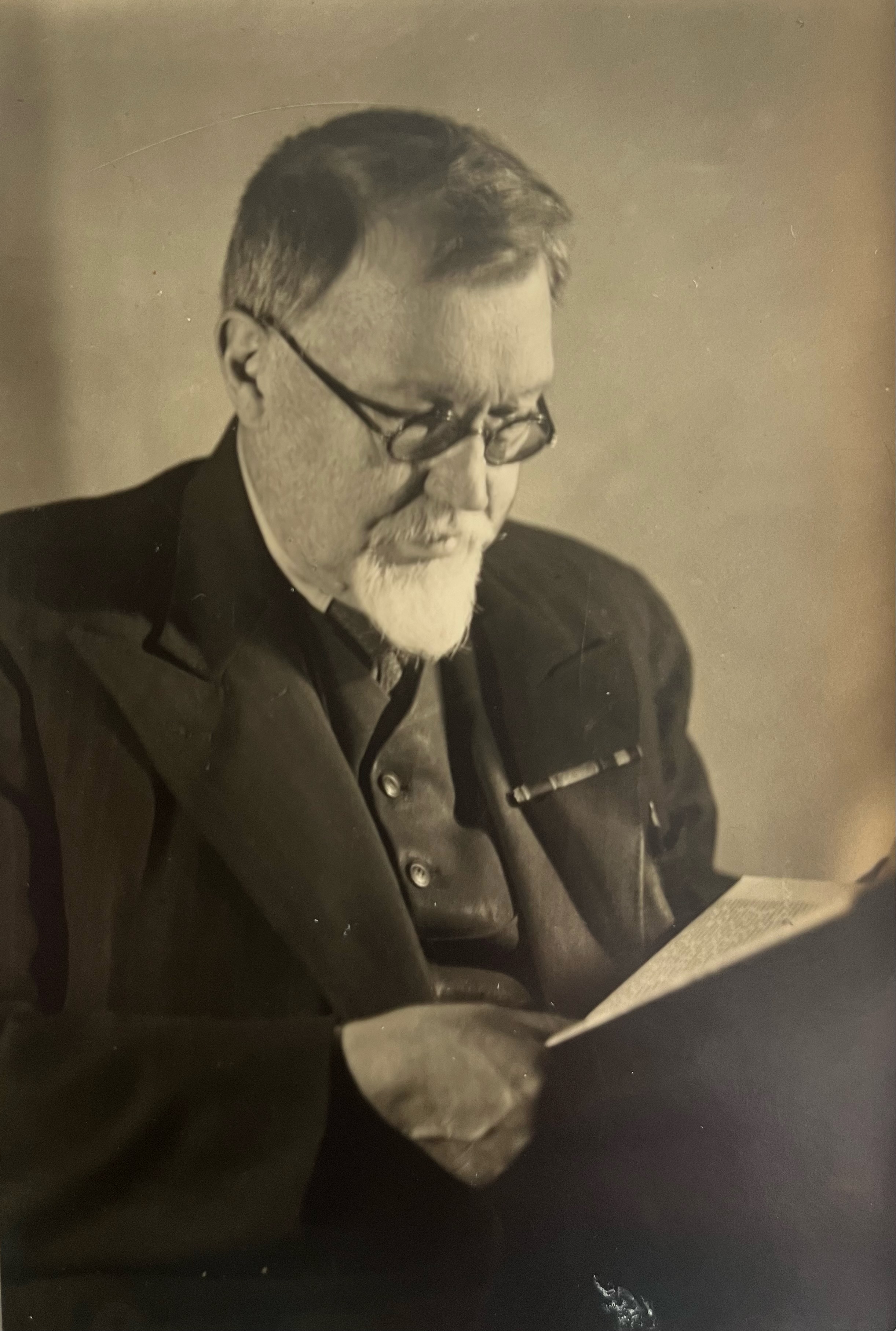
Среди моих тогдашних знакомств был академик Дубровский – у него было «не то» происхождение, и его отправили на север, на лесоповал. Когда он вернулся, это был, по-моему, 53-й или 54-й год, он сам рассказывал, как следователь спросил его, «Ну что, Сергей Митрофанович, теперь вы не будете, наверное, так активно агитировать за советскую власть?», на что Сергей Митрофанович ответил:: «Послушайте, если меня переехала машина, я что, по-вашему, буду призвать обратно к гужевому транспорту? – не дождетесь!». Вот такие были люди.
Еще одним незабываемым кругом общения был санаторий Узкое, сейчас это юго-запад Москвы, Беляево – где-то недалеко от метро. Это Узкое в своё время декретом Луначарского было отдано Академии наук под санаторий. Мой отец довольно быстро стал членом-корреспондентом Академии наук, а мама была профессором, она возглавляла огромную кафедру политэкономии в Институте экономики, он был недалеко от сельскохозяйственной выставки, так называемая Церковная горка. Так вот свои студенческие каникулы зимой и летом я проводила с родителями в Узком. Там я познакомилась с вдовой Бухарина, она была его первой женой и её не тронули. Они были приятелями с Усиевичами. Вдова была маленькой, сухонькой, но весьма убежденной дамой, которая считала, что всемирная революция, если не завтра, то послезавтра случится непременно.
Последним владельцем Узкого перед революцией был первый выборный ректор Московского университета Сергей Трубецкой. В здании сохранилась огромная библиотека Сергея Трубецкого с его пометками. В конце жизни к нему приехал, практически уже умирать, его любимый учитель, философ Владимир Соловьев. Он приехал со своей библиотекой, которую тоже разместили в первом этаже в Узком. Смотрительницами библиотеки были в основном вдовы академиков, и вот там в свободном доступе была вся литература Серебряного века: журналы «Весы», «Аполлон», «Мир искусства» — и все эти книги были с пометками Трубецкого, с пометками Соловьева, и они были в открытом доступе!
Именно там я поднимала свой будущий курс по «Серебряному веку», потому что, конечно, в Ленинской библиотеке тогда мне никто бы ничего не дал, да и хода у меня тогда туда не было. А в Узком это всё было совершенно свободно, книги давали в руки, и я их переписывала, поскольку ксерокопии тогда не было. В общем, курс будущих лекций в Московской консерватории был мною во многом разработан там, в Узком.

В зале стоял изумительный рояль Bechstein начала 20 века, огромный, хвостатый, вокруг которого собирались академики – всё это была чудесная публика: академик Франк Илья Михайлович, близкий друг наш потом, Бруно Понтекорво – кого только там не было. Вот это были мои университеты.
Будучи ещё в Центральной музыкальной школе, я довольно быстро стала заниматься на двух факультетах, отчего я получила две профессии: школу я окончила как пианистка и как музыковед. У музыковедов была практика, которую, начиная с 14 лет, я проходила в удивительном месте. Напротив дома радиокомитета на улице Качалова, рядом с домом-музеем, когда это ещё была неотремонтированная квартира Александра Николаевича Скрябина в Спасопесковском переулке, располагалась французская школа. Директором там была, не помню фамилии, звали её Татьяна Ивановна, которая своей волею заменила уроки труда на уроки истории искусства. Эти уроки искусства во французской школе, на французском и русском языках вел замечательный человек, Александр Федорович Строганов – ученик Николая Карловича Метнера, когда Метнер преподавал в консерватории. Строганов ушел на фронт, у него была полностью покалечена левая рука, а он был профессиональный пианист в прошлом. Поскольку он был энциклопедически образованным, в том числе в области искусства, то он и вёл эти уроки.
В этой школе, вообще-то говоря, кто только ни играл: играл Ашкенази, играл Малкольм Фрейджер, когда приезжал, играл Святослав Теофилович Рихтер, Эмиль Григорьевич Гилельс. Там же очень даже активно играл Александр Георгиевич Бахчиев. У нас ведь с Бахчиевым десять лет разницы. И там я его тоже слушала. Особенно в школе активно выступала друг Александра Федоровича Строганова и его, как он её называл, богиня – Марина Вениаминовна Юдина. Она регулярно не только играла, но и рассказывала. Как я туда попала не помню, но как только я там оказалась, Александр Федорович Строганов меня приметил, и с 14 лет музыковедческую практику я проводила там.
Сначала это было примерно раз в две недели, а потом стало каждый четверг – и я готовилась к этим занятиям как ишак, прямо скажу. Сколько я там всего прочитала – не перечислить: всю литературу по истории западной музыки, литературу по истории русской музыки, и чего ещё там только не было. Ну и, конечно, я слушала там, потому что все рассказы сопровождались музыкальными номерами. Из радиокомитета приходил редактор Константин Португалов, тоже образованнейший человек, бесконечный преданный поклонник Скрябина, и на списанной аппаратуре из радиокомитета, как сейчас помню, огромные вот эти вот такие столы, на которых вертелась пленка, которая время от времени рвалась, а он её потом склеивал каким-то образом. То есть получилось так, что фонды радиокомитета тоже были в моем распоряжении. Позднее я встречала по всей стране на наших с Александром Георгиевичем концертах – огромное число учеников Александра Федоровича Строганова, потому что он вырастил целое поколение. Выдающийся был человек.
Так шли мои университеты. Потом мы познакомились с Александром Георгиевичем. Мы были выходцами из одного класса, из класса Ильи Романовича Клячко – великие музыкант, великий педагог. И началась наша совместная жизнь.
Продолжение следует…
Для Specialradio.ru
май 2024
материал подготовила Наталья Бонди