
*
Жоэль Бастенер часто бывал в России в 80е и 90е годы, в нулевые работал атташе по культуре в Посольстве Франции в Москве, много сделал для развития русско-французских отношений, дружил со многими представителями русской культуры. В настоящее время господин Бастенер проживает в Иране.
Это интервью в сильно сокращенном варианте было опубликовано к его шестидесятилетию в декабре 2017 года в Музыкальном обозрении.
*
*
*
***
SR. К сожалению, в русской прессе очень мало известно про ту сторону Вашей деятельности, которая касалась сотрудничества с русскими классическими композиторами и музыкантами, поэтому, не могли бы Вы рассказать о том, с кем из русских музыкантов и композиторов Вы сотрудничали, помогали им. Если это будет возможно, расскажите, общение с какими из русских музыкантов и композиторов 80х-90х Вам запомнилось, расскажите пожалуйста истории про это сотрудничество. Например, хотелось бы знать, как у Вас складывались отношения с Денисовым, Шнитке, Губайдулиной, Каспаровым, если таковые имелись. Расскажите, пожалуйста, об этих встречах и о Ваших впечатлениях об этих людях.
J.B. Нет ничего странного или удивительного в том, что российская пресса ничего не пишет о моей деятельности, связанной с классической или академической музыкой. Она также очень мало пишет о моей роли в кругах рок-музыкантов, уделяя все внимание одной единственной звезде, ушедшей от нас 15 августа 1990 года. Нужно признать, что я и не очень-то занимался академической музыкой, меня не очень интересовал академизм. Я никогда не встречался ни с Денисовым, ни с Губайдулиной и чрезвычайно мало с Шнитке. Возможности работы с Каспаровым я обязан своим французским друзьям и знакомым. Но не стоит думать, что я близко общался с Булезом, а также, что я работал с немцами или же американцами! Нет, я встречался с французскими музыкантами, но, к сожалению, только как критик, а не в качестве продюсера, хотя они и довольно быстро стали меня об этом просить.

Действительно, Поль Мефано, а затем Лючано Берио с 1990 года – просили дать им возможность участвовать в независимых турне, которые я организовывал в Венгрии и СССР для рок-музыкантов, сочинявшим сложные электронные композиции, таким как Art Zoyd. В то время к моему мнению прислушивался министр культуры (Франции), а у нашего министерства иностранных дел не было никаких структур, занимавшихся культурным сотрудничеством в этих странах.

Сотрудничество с Берио было довольно сложным, он был слишком высокого мнения о самом себе. Мефано же, напротив, был человеком открытом и всегда готовым к сотрудничеству, при этом исполнение различных произведений его оркестром 2Е2М было для него столь же важно, что и собственное творчество. Он знакомил широкую публику с ранее не исполнявшейся совершенно новой музыкой таких композиторов как Жан Барраке (1928-1973), Брайан Фёрнихоу, Луиджи Ноно, Эдисон Денисов, Джон Кэйдж, Марк Андре. Произведения Булеза, Ксенакиса, Oханна были для него официальной музыкой, непригодной для исполнения, поскольку она нравилась влиятельным шишкам. В их музыке ему не хватало борьбы и сладости запрета.
SR. С кем из иностранных (не русских, если угодно) композиторов Вам довелось сотрудничать, как французскими, так и другими европейскими и американскими. Расскажите о Ваших контактах с Булёзом, Штокгаузеном и другими мэтрами европейской классической музыки 20 века и современными.
J.B. В реализации своих проектов я всегда сталкивался с двумя трудностями: с французской стороны – с финансовыми, на музыку всегда дают меньше средств, чем на другие виды искусства, и организационными – в СССР, где столицы прибалтийских республик были в большей степени готовы принять эту элитарную музыку, чем, например, Москва или Киев. Меня не знали русские композиторы, чье внимание было полностью сосредоточено исключительно на представителях более консервативной музыки, либо выходцах из среды первой русской белой эмиграции, объединенных Ростроповичем, либо людьми, связанных с бывшими коммунистами, как, например, издательством «Chant du Monde». Юные скандалисты и иконоборцы, к которым я себя тогда причислял, не были «героями их романа». К тому же я был совершенно неспособен обсуждать с ними происходящее в их ограниченной области деятельности.

Например, я помню, что благодаря Гидону Кремеру, с которым мне помогла связаться Лариса Егоркина-Тарковская, я встретился в Париже со Шнитке. А ведь Шнитке от природы был человеком чрезвычайно сдержанным, мне же нечего было ему сказать…
Надо признаться, что я перестал заниматься игрой на фортепьяно в возрасте 15 лет, поэтому мои знания были скудны, а моё мнение не представляло большого интереса. Моё поколение выросло скорее в тени Пьера Анри, чем Пьера Булеза. Далекий от всего, что не было шумным и механическим, я пришел к классической академической музыке благодаря Терри Райли, Стиву Райху, а затем Джону Адамсу. Открыв для себя в 1978 году Кшиштофа Пендерецкого, я начал слушать Мессиана, Лили Буланже и всех, кого дала миру Франция, и чьи классические произведения не вдалбливались в головы в государственных школах: Франсис Пуленк, Дариюс Мийо и Артур Онеггер. Поскольку Сати ещё не извлекли из забытья, я предпочитал слушать Дебюсси в трактовке Булеза 1975 года. Здесь начиналась революция! Но только послушав Яниса Ксенакиса, Арво Пярта и Альфреда Шнитке году в 1985, я открыл для себя Анри Дютийё.

Вследствие этого, в центре моей профессиональной деятельности в 1990-ых годах оставалась сфера, в которой меня наиболее уважали, то есть современная коммерческая музыка. Но, только закончив в 1998 карьеру востоковеда, я вновь появился в музыкальной академической среде. Действительно, после изучения персидского языка и публикации первых наблюдений, посвященных восточной музыке, я вернулся к классике, совершенно естественно, через музыку барокко и средневековую музыку, ведь их язык ближе Востоку. Эта специализация привела тому, что я начал писать для небольших журналов, которым были интересны в равной степени и современная музыка, и музыка барокко, и восточная музыка, находящаяся «вне кадра». С этих пор я начал встречаться с людьми, связанными с Паскалем Дюсапеном, Филиппом Манури и Жераром Гризе. Что-то вроде размывания границ, но я стоял лишь одной ногой в этом гетто современной музыки.

С этого момента, и еще больше со временем, я убежден, что Гризе (1946-1998) – самый сильный композитор из всех французских композиторов конца века, и очень жаль, что он оказался в тени своих великих предшественников Булеза и Дютийё. Именно по причине отказа от принадлежности к группе и утверждения «руководства» своей потрясающей интуиции в «спектральном», Тристан Мюрай продолжает счастливо работать. Я не могу похвастаться хорошими отношениями с Мюрайем, хотя его первоначальное образование политолога и востоковеда-арабиста дали ему ключи для понимания моего общего подхода к задачам, возложенным на музыкантов нашего времени. По характеру Мюрай человек слишком мрачный и, возможно, в недостаточной степени идеолог из-за отсутствия философских знаний. В противоположность Манури, который, как мне кажется, лучше определяет свой выбор и свои предпочтения, но за его творчеством я не слежу, на мой взгляд, надо быть либо на солнечной, либо на теневой стороне. Можно сказать, без обиняков, как говорит Жан Барраке: «Музыка – это драма, это патетика, это смерть. Это совершенная игра, дрожь, доводящая до самоубийства». И нужно порой уметь признаться себе, что являешься поэтом разрушения, певцом Великого Всего, которое больше никогда не возродится.

Если только причислять себя к области света, как Люлли или Бизе, при таком подходе один единственный француз заслуживает, чтобы исполнялись его произведения – это Филипп Фенелон – вот кого я полюбил. Сначала – прочитав его книгу текстов, собранных Лораном Фенейру, бесед с ним, появившуюся, когда Лоран печатался в тех же незначительных изданиях, что и я. Фенелон – человек гениальный во всех областях. Невероятный дилетант, прекрасный знаток живописи, обожавший театр, рожденный для сочинения опер, преемниц романских опер. И скромный: «Совершенно очевидно, что мы проводим время, подражая произведениям, будь то чужие произведения или свои! […] Лишь грамматические схемы, за которыми иногда скрываются авторы, дабы оправдать себя, отличны одна от другой». («Задние мысли: Филипп Фенелон. Беседы с Лораном Фенейру). В сущности, либо дают возможность услышать конец света, либо заставляют публику танцевать под грохот разрушений. А, чтобы танцевать, надо также петь и улыбаться. Фенелон – гурман, начавший сочинять музыку в 16 лет и получивший в 1977 году первый приз в классе Оливье Мессиана. Он не верит в необходимость неукоснительно следовать грамматике, он верит лишь в произведённое впечатление. Фенелон – человек, прыгающий от радости, любящий жизнь и не обременяющий себя соблюдением законов. В этом смысле он для меня единственный музыкант в Европе, который может помериться с неподдающимся классификации Вольфгангом Римом, не перестающим нас удивлять.
SR. Это Вы привезли Генона в Москву?

J.B. Нет, я не имею ничего общего с Геноном. Я не разделяю его идеи, хотя признаю, что он предугадал некоторые вещи в развитии религии. Он просто был прекрасным знатоком Ислама, вот и всё. Я хотел подчеркнуть эти моменты для некоторых моих собеседников – таких, как писатель Юрий Витальевич Мамлеев, с которым я общался, когда он был в изгнании, и которого я встретил в России 10 лет спустя; я перевёл две его новеллы.
SR. Что такое восточная составляющая для европейской культуры, в частности, музыкальной? Много шелухи, когда начинаются территориальные определения. Любые территориальные культуры хороши и сами по себе, и в сравнении, но все они решают одни и те же проблемы в разных тональностях, или разными способами, если угодно. Нет спора, что григорианский монах отличается от поющего мантры тибетца, или от муллы в минарете, а еще больше отличаются все перечисленные от безмолвствующего копта какого-нибудь, при этом общего между ними всеми ещё больше, чем отличий. В музыке эта самость (сиречь – индивидуальность) – она же пляшет, как правило, от территории, здесь есть изыски свои, но они все в своих рамках всегда. Получается, указание сторон света при стилистических и других определениях в музыке или культуре – это колумбово движение первопроходца вовне своей территории, или простая старая “римская” глобализация?
 J.B. Что значит восточная музыка для европейцев? Честно говоря, я не знаю! Я не могу сказать, как она воспринимается несведущими людьми. Поскольку я разбираюсь в этой тематике – особенно в области иранской и турецкой музыки, я слушаю её как специалист. Кроме того, я понимаю, о чем в ней поют, и по какой причине тот или иной лад был выбран для того или иного текста. Поэтому я легко воспринимаю эту музыку.
J.B. Что значит восточная музыка для европейцев? Честно говоря, я не знаю! Я не могу сказать, как она воспринимается несведущими людьми. Поскольку я разбираюсь в этой тематике – особенно в области иранской и турецкой музыки, я слушаю её как специалист. Кроме того, я понимаю, о чем в ней поют, и по какой причине тот или иной лад был выбран для того или иного текста. Поэтому я легко воспринимаю эту музыку.
Мне кажется, что за исключением относительно узкого круга знатоков, культура Востока европейцам абсолютно чужда. Музыканты черпают в ней отдельные мотивы – наподобие того, как художник добавляет новый оттенок в свою палитру. Но, на мой взгляд, никто не превзошёл Римского-Корсакова в «Шехеразаде». Можно даже сказать, что русские больше, чем европейцы, чувствительны к этим странным ритмам. Видимо, это объясняется географической близостью, а также постоянным стремлением к синтезу, результаты которого проявляются, например, в мелодиях мистика Гурджиева, записанных Томасом де Гартманом.
Некоторые считают, что восточная музыка не существует отдельно от европейской, поскольку источником их обеих является греко-месопотамская грамматика, из которой происходит всё, что не относится к Индии и Китаю. Но это упрощённая теория!

Прежде всего, существуют иные типы музыки – например, неклассифицируемые, как балийский гамелан; либо очень древние – в Сахаре, Сибири или Иране, которые в течении некоторого времени были отделены от общего, средиземноморского ствола, к которому примыкают все остальные виды сегодняшней музыки. В Иране любят миф о том, что нынешние классические лады лишь немногим отличаются от композиций второго века нашей эры, корни которых берут начало три тысячелетия назад.
Конечно, такое заявление смешно, однако оно не совсем ложно: возраст значительного числа широко распространённых мелодий превосходит тысячелетие, а их строение и чередование также имеют многовековую грамматику. Так что существуют региональные особенности, и на их интеграцию унифицирующий империализм потратит ещё много времени, даже если он обратил в свой тип мышления большинство композиторов из этих столь разных стран.
SR. Вы перечисляете французских композиторов, для Вас значимых, у нас в России мы почти никого из них не знаем. Это вопрос не о наших знаниях (или ограниченности оных), а о музыкальных пространствах вообще – что они представляют, эти музыкальные пространства, и как их распознавать, как попадают в эти пространства?

J.B. Ни географические регионы, ни различные районы цивилизации не герметичны. Однако ваше незнание французских авторов как раз является доказательством разделения музыкальных областей. При том, что были сделаны попытки исправить положение! Юрий Каспаров и Владимир Тарнопольский пытались наладить мосты, исполняя музыку неизвестных композиторов: Оханны, Гризе, Левинаса, Дютийё.

По их просьбе я приглашал Тристана Мюрайя и Филиппа Фенелона. Но это не сломало льда! Такое ощущение, что Россия не может побороть консерватизм, так характерный для неё – ещё с тех пор, как её руководители отбросили авангардизм, который представлял самый цвет её культуры! Вы, русские, находились в самом начале языковой революции – во главе со Стравинским в музыке, Хлебниковым в поэзии – и при этом не способны понять потомков ваших собственных гениев.
SR. Ваши музыкальные пристрастия из семьи?
J.B. Моя семья не была особенно музыкальной, но мы ходили на концерты и в оперу. По выходным отец садился за фортепиано, исполняя произведения из буржуазного репертуара второй половины 19-го века. Французский романс, танцевальный, вальсирующий – как у Ренальдо Хана и Венсана Д’Энди; лёгкий венский вальс, как у Легара. Меня заставляли играть Моцарта, что для меня было трудно; Бах же казался мне механическим.
SR. Можете рассказать, чем барокко так особенно? Вектор?
 J.B. Барочный вектор – это прежде всего выступления джазовых музыкантов на базе этой музыки, особенно – Баха. Именно те мои друзья, которые играют деструктурированную музыку, хвалят структуру, строгость, регулярное повторение одних и тех же мотивов. Но в плане слушания, я всё равно буду более чувствителен к основным французским композиторам : Марк-Антуан Шарпантье, Франсуа Куперен, Жан-Филипп Рамо, Жозеф Боден де Буамортье (1689-1755), Мишель де Монтеклер (1667-1737). Мне очень нравятся Leçons de Ténèbres (букв. – «чтение впотьмах». – Прим. Пер.), это специфический жанр, а также к наследию Concert Spirituel (см. также здесь).
J.B. Барочный вектор – это прежде всего выступления джазовых музыкантов на базе этой музыки, особенно – Баха. Именно те мои друзья, которые играют деструктурированную музыку, хвалят структуру, строгость, регулярное повторение одних и тех же мотивов. Но в плане слушания, я всё равно буду более чувствителен к основным французским композиторам : Марк-Антуан Шарпантье, Франсуа Куперен, Жан-Филипп Рамо, Жозеф Боден де Буамортье (1689-1755), Мишель де Монтеклер (1667-1737). Мне очень нравятся Leçons de Ténèbres (букв. – «чтение впотьмах». – Прим. Пер.), это специфический жанр, а также к наследию Concert Spirituel (см. также здесь).
Эта музыка является для меня проводником самых разных типов интенсивного чувственного восприятия. То есть это вещь очень индивидуальная. Для меня ценно, что дирижёр Эрве Нике дал это название – Concert Spirituel – своему ансамблю. Хотя я предпочитаю то, что делают Николя Арнонкур и Филипп Херревеге.

В Европе многие работают в этом жанре, соблюдая вокальные тембры, инструменты и ускоренные ритмы, характерные для той эпохи. Это музыка для тела, это звуки, призванные побуждать к движению, провоцировать положительные эмоции. Я больше тяготею к италийской культуре, нежели к английской или немецкой – хотя эта последняя изобилует прекрасными произведениями, от Букстехуде до Карла Филиппа Эммануила Баха. У итальянцев всё начинается с Монтеверди и Фрескобальди, которые намного превосходят своих преемников.
Для меня барокко идёт сразу вслед за джазом, поклонником которого я являюсь с 19-летнего возраста. Одно не затмевает другое, хотя понятно, что с возрастом барокко превалирует.
SR. По поводу имитации. Это любимый трёп у русских сейчас по поводу карго культов, что русская культура — это карго культура, и всякая такая другая ерунда на сей счет. На наш взгляд, всё завит не от точки зрения, а от цели сравнения. Можно говорить, что Пушкин – это славный переводчик и компилятор, и это будет верно во многом. Можно говорить, что русская классическая музыка 19 века есть переписанные произведения западных авторов, а русская живописная школа 19 века есть ученические работы итальянских школ, и примеров тому масса. И, конечно, всегда упоминается, что это всё очень часто русскими сделано оригинально, по-своему, как Левша блоху подковал, и в этом-де только отличие русских и наблюдается. В итоге, на отличиях от оригинала оценка этой позиции и фиксируется. На наш взгляд, в любой собирательной (конвенциональной) нации, а именно такой нацией являются русские, в отличие от моноэтнических или территориально компактных наций, вся культурная среда по большей части должна быть плагиатной, а иначе конвенциональности не получится. Ругать русских в том, что их культура во многом заимствована, это все равно, что сетовать на отсутствие клавиш на барабане. Конечно, оригинальность в искусстве любом – это во многом самоцель, но стоит ли из оригинальности делать доктрину?

J.B. Без внешней стимуляции не может быть творчества, поэтому без слушания не может быть музыки. Позиция России по отношению к урбанизированным и цивилизованным странам, существовавшим до неё, объясняет тот факт, что она много заимствовала. К тому же значительная часть её населения пришла извне – а именно, из Рутении и Киевской Руси. Если бы славяне не продвинулись к северу, ваша музыка была бы наверно скорее финно-угорской и обращена больше к музыкальным ладам центральной Азии, чем Европы. Вы знаете, лучше меня, что финно-угорская основа была сохранена: она частично растворилась в мелизмах литургии, привезённой из Византии. Родство между нашим грегорианским пением и еврейской литургией такое же давнее, как и родство между народным пением славян и кельтскими ладами. Так что смешение с западными культурами существовало задолго до того, как Пётр Первый пригласил ко двору немецких музыкантов. То, что произошло позже, конечно, похоже на карго-культ, это однозначно, к сожалению, однако результат получился не такой уж плохой! И это – главное!

Далее: я не умаляю изысканий Бородина или Чайковского, заимствовавших народные темы, чей колорит как раз свидетельствует о смешении между славянами, греками и финнами. Никто не скажет, что Половецкие пляски являются лишь жалким заимствованием европейских форм. И кстати, они произвели впечатление!
Ну и, наконец, вы правы: культура империй и наций заимствует во всех регионах, находящимися в её власти. Она содержит в себе что-то от плагиата. Она растворяется в месиве различных составляющих, и это смешение фальшивомонетчиков выдаёт себя за подлинное: наподобие американского рока, выражающего невероятную смесь между Ирландией и Африкой.
И поскольку мы заговорили о роке, хочу подчеркнуть, что русские музыканты, которые меня интересовали в этой области, в то время занимались плагиатом гораздо меньше, чем все остальные. Это не случайно, что я не являлся продюсером ни hard&heavy metal, ни таких важных направлений, как post-New-Wave или «социальных» типа ДДТ. Кроме Кино, я продюсировал исключительно необычные звучности и оригинальное поведение на сцене, неизвестные для европейского слушателя: ДК, АукцЫон, Звуки Му, Вопли Видоплясова. Это такие были карикатуры варваров, пришедших из степей, с их странными нравами. Я делал это из любви к диковинному, а также для того, чтобы удовлетворить спрос публики на экзотику. Эти группы частично переписывают наработки англо-саксонской музыки, но при этом трансформируют конечный результат. В то время французская публика хотела, чтобы рок был «французский», освобождённый от английских правил.
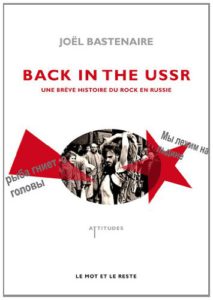
Я заметил, что образованных русских всегда шокирует эта славянофильская склонность европейской публики. Я убедился в этом, когда участвовал в организации русской выставки в 2006 года в Музее д’Орсэ.
Та история, когда группа «Абрамцево» якобы заново изобретает славянскую национальность, очень не понравилась русским, а французы были в восторге. Мы любим, когда русский похож на то, что он есть на самом деле.

SR. От музыки отойдем ненадолго в сторону художественного искусства. Кого из ныне живущих русских художников Вы можете выделить? Насколько мы понимаем, сегодня художественное искусство постигла та же участь что и музыку – она размыта по нишам? Считаете ли Вы, что авангардом русской музыкальной перестройки 80х были художники? Откуда они взялись? Просто эта аудитория была более осведомленной, потому что общалась с иностранцами, в этом причина?
J.B. Отметить кого-то из современных художников России? Их много: моё знакомство с ними началось с 1986 года. Кто-то из них с тех пор уже умер как Тимур Новиков и Георгий Гурьянов, другие остаются для меня важными, например, Олег Котельников и Георгий Острецов. С 1995-го по 1999-й год я общался в Париже с другим поколением, в котором я бы отметил Олега Кулика и Андрея Молодкина. И наконец, многие художники обращались ко мне в тот период, когда я был культурным атташе нашего посольства (в Москве). Среди них мне особенно запомнились Александр Пономарёв и Валерий Кошляков. Алексей Каллима, Константин Батынков, Ирина Корина и Дмитрий Гутов также пользуются моим расположением. Но их всех затмил великий Эрик Булатов.

Я был рад поддерживать по мере моих возможностей некоторых из этих людей, равно как и других, менее значительных. Наиболее выдающиеся из них не нуждались в моей помощи – они были прославлены до того, как мы познакомились. Мне бы не хотелось называть здесь имена менее интересных художников, с которыми я зачастую общался, прежде всего ради их человеческих качеств: для меня они являются бесспорными и превосходящими черты характеров рокеров, от которых я отвернулся после 1992 года.
Являлись ли художники Петербурга, окружающие второе поколение рокеров, авангардом перемен, до того, как рок взял свои права? Да, несомненно, но это не связано с общением с иностранцами; это явление восходит к началу 1970-х годов, до изгнания Бродского, Довлатова и Хвостенко. Дело не во влиянии журналов по искусству, а скорее в сосуществовании с более образованным классом, сохранившим связи с личностями довоенной эпохи и даже Серебряного века. Когда я познакомился с Новиковым и Котельниковым, они черпали вдохновение в том, что им было известно – то есть в футуризме – от Ларионова до Ослиного хвоста.

Они говорили о Гумилёве и Пастернаке, которым они предпочитали Хлебникова, и выставляли как флаг Маяковского, против которого КПСС тогда ничего не мог возразить…
Ваше замечание верно: современное искусство разделено на ниши, и эти люди проводят своё время за тем, что издеваются над другими или же отлучают друг друга, как в сектах. Русская ситуация немного иная в том смысле, что здесь художники в основном еще помнят о том, что они представляли собой единый фронт противостояния тоталитаризму.
Но вместе с забвением этих старых времён, с появлением некоего официального искусства, а также с возрождением двусмысленного политического искусства, различные экстремистские накручивания – в частности, со стороны тех, кто является скорее теоретиками, чем создателями – углубляют рвы между людьми, одинаково заслуживающими уважения. Политизация линии поведения художественных галерей тоже, к сожалению, немало этому способствует.

Несмотря на этот типично русский недостаток, я испытываю искреннюю нежность к тому, что делают художники вашей страны. Выходит так, что я как бы больше «в фазе» по отношению к этому искусству, чем к какому-либо другому. Грузины, с которыми я познакомился позже, произвели на меня гораздо меньшее впечатление. Что касается французов, я отношусь с большой строгостью даже к самым известным из них, и назову только одно имя: это юморист Пьеррик Сорен, которого я имел удовольствие показать в Москве в 2006.
SR. К разговору об актуальности музыки. Мы не разделяем популярную сейчас в России точку зрения, что музыка делится на актуальную и неактуальную, да и вообще, применение термина актуальности в музыке нам представляется сомнительным. В нашем понимании, музыку определял и определяет заказчик. Существует три вида музыки: первый – музыка социальных заказов, которая в общем случае – либо проплачена, либо раскручена, второй – пласт музыки традиционной или местечковой, который используется утилитарно, и третий – экспериментальные музыкальные лаборатории, работающие над новыми звуками и их свойствами научно. На наш взгляд, актуальную музыку назначают (либо делают – как угодно), а не то, что рассказывают небылицы, что она вдруг берется из спонтанного синкретизма, про талантливых парней из портовых английских городов, по случаю оказавшимися гениями, которых вдруг признал весь мир. Вы – человек, профессионально знающий многие сферы музыки. Какие на Ваш взгляд наиболее любопытные тренды существуют сегодня в лабораториях музыки.
J.B. Я согласен с вами в том, что не существует музыки актуальной или неактуальной, поскольку всё, что слушается в настоящее время составляет часть нашей сегодняшней жизни. Так что неактуально только то, что забыто, тут не о чем и говорить. К сожалению, этот неадекватный термин был широко использован в защиту популярных и упрощённых форм, а само слово даже входило в название одного из агентств, где я работал – «информация и ресурсы актуальной музыки»: его работа заключалась в том, чтобы обучить целое поколение менеджеров в области варьете. Это агентство представляло оппозицию булезовскому институту IRCAM и имело гораздо более скромное финансирование, чем IRCAM, принадлежащий к числу тех самых лабораторий, о которых вы упоминали.

После непродолжительной работы в должности управляющего другой государственной конторой – а именно Бюро экспорта французской музыки, в 2013-2014гг., я покинул музыкальный мир, решив, что он был признателен мне не больше, чем государственная администрация. С тех пор, как я во всеуслышание заявил, что «король голый» на одном заседании, где присутствовал генеральный секретарь Набережной Орсэ (неофициальное наименование Министерства иностранных дел Франции. – Прим.пер.), меня постепенно отвергли и вычеркнули из дипломатических должностей. Я не должен был говорить, что Франция делает слишком мало для своей музыки. Конечно, было бы понятно, если бы мне ответили, что эта музыка стала менее интересной, по крайней мере за последние 30 лет, и это правда. Но, поскольку, высокопоставленные клерки нашего государства никогда не говорят того, что думают на самом деле, мне ничего конкретного не ответили, а только удивились моей наглости.

Я не верю ни в лаборатории электронной музыки, ни в питомники молодых талантов. Я считаю, что порождение гениев происходит естественным путём; конечно, оно в широкой мере опирается на образование солистов и изучение истории музыки. Но Пушкин, Гюго, Верлен и т.д. не проходили курса стихосложения, сравнимого со школами сценаристов или курсами авторов песенных слов, которые сейчас расцвели во Франции, и в наше время лирики проявляют невероятную узость мышления, тогда как авторы 1950 годов так и не были превзойдены! Мои 20-летние дети, как и большинство их сверстников, слушают музыку своего времени. Я тоже в их возрасте не слушал то, что мой отец обожал в 1945 году.
SR. Сегодня, в условиях, когда культура вообще и музыкальная культура в частности, идет одновременно по двум путям – сегрегации и унификации, какие тренды в унифицированной (признаваемой большинством) музыке сегодня превалируют, на Ваш взгляд. Такие же, как и ранее – музыка, которая говорит, что всё хорошо?
J.B. Да, к сожалению, тенденция к упрощению и вульгарности превалирует, и мой страх перед этой бездной заставляет меня возвращаться к академическим формам.
SR. Обязательным в программе для изучения в американских школах является джаз, как музыка, несущая социальную нагрузку. Какой могла бы быть на Ваш взгляд аналогичной музыка с социальной нагрузкой (направление музыки) в русских школах? Хоровое пение?
J.B. Абсолютно верно. Хоровое пение русских характеризует лучше всего, а также отличает вас от всех остальных. Эстонцы и карельцы составляют исключение и, благодаря этому видно, что в ваших хорах проявляются финно-угорские корни.
SR. Чем характеризуется сегодня европейская художественная действительность, и есть ли общее и различия в состоянии русских художественных трендов и европейских, на Ваш взгляд (если вообще эти тренды имеются).
J.B. В вашем вопросе я чувствую убеждённость в том, что Россия и Европа различны и, по-видимому, не совместимы. Как жаль! Как и все, я констатирую «азиатское направление» русской части советского континента: смещение, которое происходит и демографическим путём, и отрывом от Балтов и Украины, а также через посредничество управляющей системы.
Результат ощущается на выборе организации и инфраструктур: когда Европе размышляет о цивилизации без автомобилей и спальных районов, о децентрализации, город Москва, напротив, расширяется на глазах – за счёт покинутых деревень. И в то же время, в языке культуры нет видимого разделения. Конечно, не потому, что он универсален! Скорее потому, что Россия принадлежит к западному миру, хочет она этого или нет. Её система ценностей и представлений остаётся христианской, а её художники воспринимают себя согласно их отношению к европейскому наследию. Хотим мы этого или нет, существует некая серединная область, зона наложений: она может либо считать себя таковой, либо не обращать на это внимание, но она не является ни Европой, ни Азией, и действует с помощью совокупных влияний. К этой зоне примыкают как минимум три большие державы: Россия, Иран и Турция, а также входящие в их зону влияния страны меньшей значимости – такие, как Ливан, Кавказ и центральная Азия.
Это вопрос самоопределения, а не объективных данных. Возьмите, к примеру, Иран, где я живу: изначально он принадлежит к индоиранской азиатской сфере, а его мусульманская культура привязывает его к арабскому миру. Но ему хочется быть более современным и рациональным, чем его соседи, более открытым миру, более техничным. В своём желании быть универсальным он ассимилирует себя с Западом, культуру которого он впитывает, как губка. Его вековая мечта – преуспеть в преобразовании самого себя, по примеру Японии. В этом смысле, Иран до сих пор ждёт своего Петра Первого.
SR. Немного в сторону от искусства. Французская социология, несмотря большие имена, тем не менее, значима не этими именами в основном, а тем, что сумела качественно реализовать открытия в области устройства общества 20 века в применении их на практике. Как бы Вы обрисовали, какой именно социальный тренд сейчас в Европе реализуется, и каково его преломление в России?

J.B. Я не очень хорошо понимаю смысл этого вопроса. Я не считаю, что во французском обществе произошёл большой прогресс за последние два века. Бальзак остаётся непревзойдённым мэтром социологического исследования, даже если эта «наука» в его эпоху ещё не родилась; из того, что он описал, стёрлось очень немногое, и в основных чертах всё осталось прежним.
Конечно, Европа не похожа на то, что видели в ней Золя, Гюго, Диккенс: лохмотья нищеты видны меньше, но я не думаю, что Бурдьё повлиял на природу и форму общественных отношений. То, что он сказал в «Различии» – книге, которую я открыл для себя в 1976 году, должно было служить слому барьеров между общественными классами и слоями. Но ничего подобного не произошло. Раны обид не зажили, и образ мыслей, например, (философа) Мишеля Онфрэ, – лучшее тому свидетельство. Поверхностные изменения обусловлены смешением населения, прибывающего с других континентов, и франко-африканским сплавом.
Здесь заложен вектор глубокого преобразования; он затрагивает не только вершину общества, но и все остальные слои, даже деревенские. Подобный процесс происходит сейчас и в Англии. И сегодня, когда двойная иммиграция сирийцев и афганцев добавляется к переселению советских немцев, та же метаморфоза заденет и самую населённую страну Европы. Позже, через 30-50 лет, потомки этих мигрантов войдут в доминирующий класс тех стран, которые они заселили. И тогда кардинально изменятся не только нравы и кулинарные привычки простого народа, но также вкусы и формы, характерные для богатого класса.
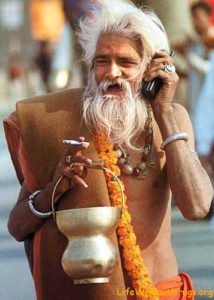 В настоящий момент, частичные изменения в жизни европейцев обусловлены влиянием технологий. Однако эти изменения гораздо менее случайны в странах третьего мира, где образ жизни, устоявшийся в течении тысячелетия, был сведён на нет за последние 20 лет – в частности, за счёт распространения мобильных телефонов. Это универсальный инструмент, прекрасно адаптирующийся к любому климату, стал так же необходим, как раньше – нож.
В настоящий момент, частичные изменения в жизни европейцев обусловлены влиянием технологий. Однако эти изменения гораздо менее случайны в странах третьего мира, где образ жизни, устоявшийся в течении тысячелетия, был сведён на нет за последние 20 лет – в частности, за счёт распространения мобильных телефонов. Это универсальный инструмент, прекрасно адаптирующийся к любому климату, стал так же необходим, как раньше – нож.
Европа более устойчива, чем эти общества, будем надеяться, что она не передаст управление этими гражданами машинам, которые скоро будут мыслить и реагировать быстрее, чем люди, заменяя наши мозги. Когда я говорю «Европа», я имею в виду не сверхнациональную бюрократию в Брюсселе, а настоящую Европу – её цивилизацию, представляющую собой смешение национальных культур всех народов этого континента, включая Россию. И надеюсь, что завтрашние русские не станут гибридами в виде светлокожих американизированных азиатов.
Возвращаясь к социологии, сделаю последнее примечание по поводу современного искусства. Как вы прекрасно знаете, что приверженность к визуальной культуре является социальным показателем. Покупать произведения этих художников или даже просто присутствовать на их вернисажах – это в наше время стало привилегией элиты. По крайней мере, это – часть того, что элита хочет нам продемонстрировать относительно себя самой, а также относительно путей, которые она предлагает для восхождения по социальной лестнице.
Критики, культурные организации, а иногда и бюрократы, финансирующие заказы, могут время от времени быть приняты в высшее общество покупателей. Но они в любое время могут быть выдворены оттуда; только некоторые теоретики, прекрасно владеющие сложными философскими понятиями, могут надеяться на то, что их не забудут. Вопреки доминирующей идеологии республиканского и социалистического толка, пытающейся доказать, что смешение общества должно приветствоваться, элита всегда старается избегать тех, кто не принадлежит их касте. Последние 10 лет французское популярное кино использует юмористический тон, обращаясь к теме этого непреодолимого порога.
SR. Сколько бы ни ругали современную музыкальную жизнь, тем не менее, она феноменальна по своему разнообразию, качеству и мобильности (технологичности), если так можно выразится. Как Вы считаете, что является определяющим сегодня для музыки помимо технологических возможностей. То есть, что еще помимо технологии привнесено сегодня в музыку?

J.B. Я не знаю, чтó заложено в музыке сегодня, не считая способности этого искусства звуков и ритмов вызывать яркие эмоции и, соответственно, удовольствие, зачастую парадоксальное. Слушание музыки непосредственно связано с желанием двигаться или расслабиться, иногда – сопроводить подавленное состояние или же облегчить душевную боль. Ухо – это орган, действующий на мозг более активно, чем четыре остальных чувства. Вы же знаете: с психологической точки зрения, проще быть слепым, чем глухим. Поскольку в каждом слушателе музыка провоцирует индивидуальное ощущение и таким образом формирует индивидуум, с ней борются все враги свободы. В этом отношении талибы пошли по следам Хомейни, заявив, что музыка вредна больше, чем опиум. Пока музыка является источником и проводником веселья и разнузданности, она выживает и находит свою публику. Но не тогда, когда она ограничивается тем, что удовлетворяет нужды кино и рекламных роликов или же побуждает к покупкам в модных бутиках. Напомню слова Джима Моррисона: «Мы были двумя телами, танцующими на холмах – до того, как стали двумя глазами, уставившимися на экран», не помню, откуда эти слова, возможно из The Lords. Notes On The Vision.
SR. Насколько всем известно, пропаганда – это когда кто-то куда-то зовет. Искусство в пропаганде принимает всегда живейшее участие. В случае, если то, куда зовут непонятно (и это уже не пропаганда), то задача перед искусством ставится, как ни странно, более простая – такая своего рода отредактированная документалистика для фокус-групп. Мы живем во времена «документалистики», поэтому всё массовое искусство по большей части довольно однообразное. Как Вы считаете, насколько далеко подобного рода искусство может дойти в своем развитии, можно ли от него ждать каких-то сильных прорывов или ответвлений.

J.B. В настоящий момент, поскольку все артисты ощущают на себе давление великих произведений прошлого, я вижу вокруг лишь аллюзии, двойной смысл, цитаты, цитаты слишком известных цитат, цитаты цитат, попытки осквернения и тому подобное. Правильно ли я понял, что это то, что вы называете документалистикой? Но я не в курсе всего, что сейчас происходит – особенно с тех пор, как я сознательно принял решение жить в стране (Иран), немного опаздывающей относительно к мировым часам. Но, кстати, от этой страны нужно многого ждать в течении ближайших 10-15 лет, если учесть её вековые традиции в области инженерных технологий и декоративных искусств. Это молодая страна, в которой святая наивность доминирует на отвращение; что-то, напоминающие наши 1960-е годы!
SR. Социум (народы, если угодно) двигают поэты. При этом, мы сегодня их не видим, но их влияние как было, так и остаётся довольно значительным, хоть и малозаметным. Вы сегодня из современных поэтов можете кого-то выделить или порекомендовать к прочтению (не обязательно русских)?

J.B. Мне очень приятно, что вы упоминаете поэзию! Это говорит о том, что ваше мышление остаётся независимым и глубоко русским. Должен признаться, что я больше не читаю русскую поэзию. Я изучаю иранскую: в этой стране поэзия чрезвычайно важна; её знают наизусть и цитируют вслух; здесь сохранился вкус к слову, к звучанию чередующихся слов; к этому добавляется прелесть аллюзий и отсылок к запрещённому и к тому, что нас хотят заставить забыть. Я не вижу эквивалентов о Франции или Германии. Во Франции сейчас много слэммеров, выражающих нечто вроде социального недовольства; они используют язык-гибрид, отражающий культурное смешение. Это не всегда бывает плохо или неприлично, но никогда – гениально. Я не думаю, что память о каком-нибудь из них сохранится надолго. Как фарс и театр в конце Средневековья, это одна из полезных и влиятельных форм выражения, но я не вижу в ней предтечи большого искусства.
В противовес этим популярным формам, образованные классы во Франции и Германии создают жестокую и болезненную поэзию, основанную на цитатах или на незаконном присвоении существовавшего ранее. Это искусство вызывает улыбку, либо заставляет скрипеть зубами; оно способно к очень содержательным тонкостям, но им не хочется восторгаться или запоминать его. Мишель Ольбек кажется мне лучшим поэтом, чем романистом, но его поэзию не читают. Потому что его тематика всё время одна и та же, потому что в его поэзии ещё больше, чем в прозе, фантазий насчёт самого себя – ещё более болезненных и самоиспепеляющих. Вошло ли искусство страны в стадию упадка?…

SR. Не утихают споры о злонамеренности и правоте при оценке различных общественных явлений. Музыкальный базис есть у любого человека, и этот базис является одним из главных для любого общества. Мы не берем, понятно, материнские колыбельные, мы говорим о том, что является основным резонатором для человека (то, что его воспитывает или меняет). Как Вы считаете, какая сегодня основная резонирующая музыка для такой разношерстной территории как Россия? Мы уверены, что Ваше многолетнее участие в культурной жизни России продолжается. Расскажите пожалуйста, какими русскими проектами Вы сегодня интересуетесь или поддерживаете?
J.B. Я не знаю, удивлю ли я вас или огорчу, но я не могу ответить на этот вопрос, поскольку плохо понимаю, что сейчас происходит в России и к чему она движется. Я не был в вашей стране уже 10 лет – это много для того, чтобы судить о ней. Я не приезжаю, поскольку знаю, что меня разочаруют некоторые явления, как и в тот период, когда меня не было в вашей стране (с 1997 по 2003 год), я слежу за новостями на расстоянии – по телевидению и интернету. То, что я вижу, часто повергает меня в негодование, но я думаю, что с моей стороны будет неделикатно вас поучать, поэтому лучшее, что я могу сделать – это оставаться в стороне.
ДЛЯ SPECIALRADIO.RU
Материал подготовлен Натальей Бонди
Перевод с французского Екатерины Купровской-Денисовой
осень 2017
Видео по теме:
Добавить комментарий