Сборник статей Пьера Булеза «Ориентиры I. Избранные статьи. Актуальное искусство» (Ecce Homo, 2004, ISBN 5-98378-001-8) уникален для русского читателя даже после 21 года со дня его издания: это первое столь масштабное издание трудов Булеза на русском языке, подготовленное с поддержкой французского МИДа и ведущих актуальных издательств. Для музыкального книгоиздательства России появление этой книги стало событием — столь широко и аналитично Булеза не издавали даже в академических центрах, а его тексты были доступны только в отрывках. Сборник стал важнейшим связующим звеном между западной музыкальной мыслью и русской композиторско-исследовательской сценой начала XXI века.
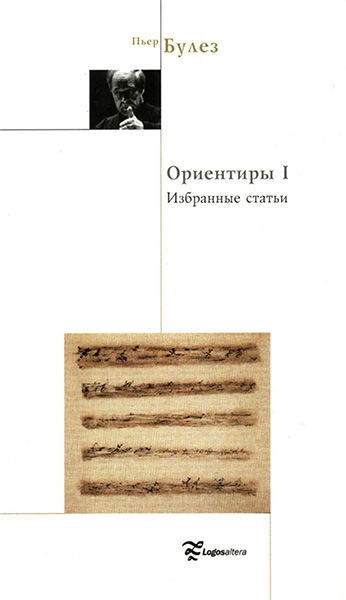 Булез писал свои статьи в разные годы, находясь в гуще авангардных дискуссий, работая дирижёром, композитором, педагогом и критиком, часто — по приглашению крупных фестивалей или издательств. Многие тексты рождались из живых встреч с музыкантами, во время лекций в IRCAM и других институтах, часть статей — под впечатлением работы над собственными партитурами или в диалоге с молодыми авторами. Булез был не только теоретиком, но и практиком, много экспериментировал, а его статьи — не итог, а своеобразные «рабочие заметки», призывающие к размышлению и постоянному обновлению взглядов.
Булез писал свои статьи в разные годы, находясь в гуще авангардных дискуссий, работая дирижёром, композитором, педагогом и критиком, часто — по приглашению крупных фестивалей или издательств. Многие тексты рождались из живых встреч с музыкантами, во время лекций в IRCAM и других институтах, часть статей — под впечатлением работы над собственными партитурами или в диалоге с молодыми авторами. Булез был не только теоретиком, но и практиком, много экспериментировал, а его статьи — не итог, а своеобразные «рабочие заметки», призывающие к размышлению и постоянному обновлению взглядов.
В статье “ALEA” Булез впервые поднимает тему случайности как структурного средства для композитора. Булез использует термин alea (букв. кость игральная – лат.) как прямую отсылку к латинскому слову, обозначающему «жребий», «случай» (отсюда – аллюзия на игру в кости). Для него alea — это принцип включения контролируемых элементов случайности в композицию, когда финальный результат не полностью предопределён автором, а допускает выбор и непредсказуемость. Он интегрирует alea в структуру произведения: музыка становится пространством выбора между вариантами развития, а каждый исполнитель получает шанс «бросить свой творческий жребий» внутри заранее спроектированной системы. Он утверждает, что alea — это не хаотическая примесь, а способ наделить музыку множеством путей развития. Композитор не просто пишет окончательный текст, он задаёт пространство вариантов, создавая условия для выбора исполнителя. Кроме того, именно здесь формулируется концепция “контролируемой свободы”: произведение становится сценой для диалога между автором и музыкантом.
Булез не просто разрушает существующий порядок музыкального творчества порядок и не предлагает хаос вместо структуры. Его концепция alea — это не хаотическое отрицание всякой организации, а построение нового порядка, основанного на диапазоне возможностей и контролируемой свободе. Композитор задаёт систему, внутри которой случайность и выбор интегрированы как часть процесса, но рамки, правила и варианты всё равно конструируются автором заранее. В результате музыка становится не хаотичной, а многовариантной: поведение внутри этой системы регулируется, не исчезает логика структуры, просто теперь она допускает несколько сценарием развития. Булез сознательно балансирует между порядком и отклонением от него, позволяя музыке быть более живой и многозначной. Его alea — не хаос, а гибкая, программируемая многозначность.
Понятие alea у Булеза действительно имеет сходство с импровизационными практиками джаза по принципу вариативности, выбора, свободы исполнения, но есть и существенное отличие. Джазовая импровизация строится на спонтанном создании нового, где исполнитель волен изменять материал, руководствуясь чувствами момента и коллективной коммуникацией. Булез, напротив, сознательно программирует пространство для вариаций: он прописывает в партитуре набор допустимых решений, между которыми исполнитель выбирает, но выбор этот заранее продуман композитором. Alea у Булеза — это “регламентированная свобода”: не полная автономия импровизатора, а сочетание авторского контроля и свободы исполнителя в заданных границах. Таким образом, alea – это гибрид между строгой композиторской системой и элементами живой импровизации, но импровизация у Булеза всегда встроена в структуру, а не абсолютна, как в джазе.
Размышляя в “О формировании слуха XX века”, Булез анализирует, как технические революции изменили само восприятие музыки. В его трактовке композитор теперь обязан быть педагогом, взаимодействовать с новым типом аудитории, учёной в технологиях и электронном звучании. Инновационная мысль здесь — слушатель и творец обучаются друг у друга, а смысл музыки складывается на пересечении персонального опыта и технических новшеств.
Булез предлагает современному композитору освоить инженерию звука, работу с техникой, электронными и цифровыми инструментами. Для Булеза композитор ХХ и XXI века — это не только художник, но и технолог: он должен разбираться в акустике, синтезе, программировании, уметь работать с медиасредой, чтобы его музыка могла быть понятна и современна для нового слушателя.
На ранних этапах истории профессии, в Средневековье и эпоху Возрождения, композиторы были технически подкованы: они разрабатывали системы нотации, конструировали органы и клавикорды, экспериментировали с архитектурой храмов ради акустических эффектов. Булез возвращает эту “технарскую” роль, объединяя творчество с инженерией и наукой; композитор снова становится исследователем параметров звука и слуха, перестаёт быть исключительно “поэтом”, а становится “создателем новых возможностей” в звуковой сфере.
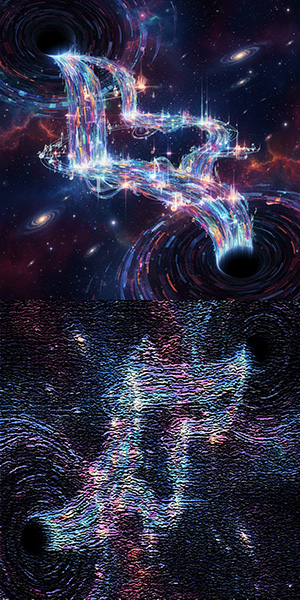 В эссе “О структуре времени в музыке” Булез разрушает традиционное представление о линейности — теперь звуковое время может быть слоистым, полифоничным, с разным ритмом в каждом слое. Булез предлагает мыслить музыку не как ход стрелки, а как архитектуру, где разные зоны переживаются по-своему. Музыкальная драматургия перестаёт быть только последовательной, она становится пространственной и динамически подвижной.
В эссе “О структуре времени в музыке” Булез разрушает традиционное представление о линейности — теперь звуковое время может быть слоистым, полифоничным, с разным ритмом в каждом слое. Булез предлагает мыслить музыку не как ход стрелки, а как архитектуру, где разные зоны переживаются по-своему. Музыкальная драматургия перестаёт быть только последовательной, она становится пространственной и динамически подвижной.
Булез считал поиск новых структур музыкального времени не просто экспериментом ради эксперимента, а шагом к расширению возможностей восприятия и мышления. Он видел в многовекторной, “слоистой” музыке способ выразить динамику современности, где человек живёт в многозадачной, разнотемповой реальности — отражаясь как в течении времени, так и в звуке. Булез верил, что музыка может быть лабораторией ощущений, пространством для новых интеллектуальных и эмоциональных опытов: не только давать привычное удовольствие, но провоцировать на переосмысление, будить наблюдательность, усложнять вкус.
Однако, отношение Булеза к публике противоречиво. Он был больше озабочен качеством и оригинальностью художественного поведения, чем массовым успехом. Его знаменитая ироническая фраза “если все ушли с концерта — значит, концерт удался” демонстрирует стремление к художественной автономии и готовность жертвовать признанием ради новых идей. Булез ценил слушателя-исследователя, а не только потребителя впечатлений. Его искусство может казаться элитарным и трудным, но его задача — не усложнить ради сложности, а предложить иной взгляд на музыку, через который даже небольшой круг слушателей может обрести уникальные смыслы. Подход Булеза – это скорее эксперимент по развитию самого слушателя, чем по удержанию привычной концертной аудитории.
В исследовании “Процесс композиторской работы” Булез утверждает, что творческий акт — это не финальная точка, а бесконечное переписывание, тестирование и поиск новых воплощений. Произведение здесь — не законченный объект, а живой лабораторный организм. Вдобавок, рассматривает свободу смешения жанров и подходов, призывает к мозаичному сочетанию техник и звукопластики, чтобы расширить границы художественного высказывания.
В позиции Булеза о процессе композиторской работы чувствуется влияние восточных философий, включая принципы незавершённости и открытого развития, которые близки буддизму и даосизму. Его акцент на процессе, изменчивости, возможности пересборки, отсутствии необходимости окончательной версии противостоит классической европейской идее рациональной композиции, где ценность лежит в завершённости, строгости структуры и единственности воплощения.
Однако, Булез не столько антиевропейский, сколько постевропейский мыслитель: он вырос из европейской традиции (особенно французского авангарда), но предпочёл комбинировать рациональное и открытое, предложив подход, в котором результат менее важен, чем творческая эволюция. Для Европы характерен культ единого произведения и попытка довести форму до совершенства; Булез критикует этот “культ результата”, смещая акцент на эксперимент, возвращение к материалу, его переписку, поиск новых путей.
Это не отвержение рациональности, а её преодоление — попытка интегрировать спонтанность, недоговорённость, вариативность в строгую систему. Его творчество — не отказ от интеллектуального закона, а перевод его на язык процесса, близкий восточной эстетике, но оформленный в терминах западной музыкальной техники. Такие идеи действительно выглядели для европейской сцены его времени революционно и даже вызывающе.
Вопрос мотивации такого радикального эксперимента у Булеза сложен и противоречив, и сомнения слушателя, привыкшего к эстетике, красоте и традиционному смыслу музыки в этом смысле вполне обоснованны. Булез, как и многие композиторы его поколения, жертвует формой и привычным “уровнем красоты” ради попытки вскрыть новые глубины восприятия звука, ритма, структуры — он ищет не столько гармонию, сколько возможности для поиска и открытий, пусть даже результатом становится “нойз”, трудный для восприятия массового уха.
Его подход — не столько разрушение ради разрушения, сколько стремление вырваться из рамок, которые казались самоочевидными и неизменными. Для Булеза важна не красота в классическом понимании, а интенсивность творческого жеста, оригинальность переживания, свежесть музыкального опыта. Он предлагает слушателю перестать быть пассивным потребителем совершенства, а стать активным соучастником, пытаться находить новые смыслы там, где раньше не искали.
Такой подход приводит к отчуждению массового слушателя и чувству демонтажа традиций европейской музыки: многие так и воспринимали авангард как уход от европейской красоты в сторону интеллектуального эксперимента ради самого эксперимента. Но для Булеза и его единомышленников это был шанс расширить само понятие музыки, дать ей новые измерения, а не просто заменить одно каноническое звучание другим. Их творчество — вызов привычке, попытка обновить способ слушать, думать, чувствовать, отказаться от “готовых ответов” в пользу поиска. Такой подход вовсе не отрицает глубокую европейскую традицию — он её перерабатывает, иногда болезненно, иногда очень мощно, чтобы стимулировать внутреннее развитие искусства и аудитории.
В диалоге “Интерпретация в новом искусстве” Булез настаивает: дирижёр и исполнитель могут менять жанр и форму произведения не меньше композитора. Их работа становится творческим продолжением, а любой текст становится площадкой для интерпретаций, диалогов и даже домашних ритмов. Впервые интерпретатор мыслится как равноправный участник художественного процесса.
Булез размывает привычные границы между автором, исполнителем и слушателем, продвигая концепцию интерпретации как творческого акта, где исполнитель становится соавтором, а слушатель — потенциальным участником художественного процесса. В мировой практике такие эксперименты встречались — от концертов “акционистов” и перформанса, где публика могла играть на сцене, до интерактивных проектов на электронных платформах, где любой желающий может влиять на развитие improvisation.
Но Булез всё же не сводит новаторство к хаотичному “извлеканию звуков” каждым присутствующим. Для него важно, чтобы со-участие, интерпретация были смысловым действием — с уважением к материалу, к идее автора, с художественным предложением, а не только к проявлению спонтанного “шумового акта”. Таким образом, его концепция скорее приглашает к тщательному и творческому переосмыслению исполнителя и слушателя, но не к тотальной отмене профессионализма и художественного намерения. Переход от “авторитетного автора” к коллективному искусству видится у Булеза не как анархия, а как новый уровень взаимодействия, диалога, где зритель становится осмысленным интерпретатором, а не просто случайным генератором звука.
Говоря о “Современном художественном пространстве”, Булез выводит искусство из рамок отраслей. Для него музыка, театр, поэзия, перформанс существуют как единая система, симбиотически взаимодействуя. Здесь важна не форма, а интенсивность творческого жеста, сама энергия самовыражения, мощность художественной автономии. В эссе, посвящённом художественным ценностям и эстетике, Булез скрупулёзно рассматривает, как ценность произведения не в традиционной структуре, а в измерении индивидуального художественного усилия и степени самоотдачи автора. Незаметные детали могут оказаться не менее важными, чем крупные концептуальные формы. Рассуждая о будущем музыки, Булез пишет о необходимости смело разрушать границы привычного и идти на эксперимент, даже если это приводит к затруднениям в восприятии или конфронтации с академическими стандартами. Композитор нового времени, по его мнению, становится исследователем, а не только творцом.
В размышлениях о роли интерпретатора в музыкальной культуре он доводит до логического завершения идею гибридного авторства, где исполнительские решения — не только стилистические, но и концептуальные, могут менять судьбу произведения, открывая его новые горизонты. В одной из финальных статей Булез вплотную подходит к мысли о том, что искусство XX-XXI века нуждается в постоянном переосмыслении своих основ, где каждое явление творческого акта — повод для дополнительного анализа, комментария, спора, а иногда даже разрушения сложившихся канонов ради поиска новых смыслов.
И, наконец, в современных гуманитарных эссе он формулирует то, что можно назвать “этическим вызовом художника”: искусство должно вступать в диалог с реальностью, не ограничиваться внутренним миром автора или теорией жанров, а строить мосты к новым аудиториям, технологиям, смыслам и формам жизни. В итоге можно сказать: каждая статья Булеза в этом сборнике — не просто проявление гения, а приглашение к совместной работе над понятием искусства и музыки, где старые ответы перестают быть универсальными, а сами вопросы — становятся основой творческого бытия.
Сегодня, спустя почти сто лет после появления идей Пьера Булеза, вопрос о настоящем и будущем музыки остается крайне противоречивым. С одной стороны, многие его открытия и принципы — от системной свободы до поиска новых звуковых реальностей — стали не просто нормой, но и поводом для дальнейших экспериментов: электронная музыка, гендерные и культурные слияния, внедрение технологий и искусственного интеллекта радикально изменили ландшафт звучания. Композитор XXI века использует бесконечно широкий инструментарий, работает над интерактивными алгоритмами, привлекает слушателя к участию, творит не в одиночку, а во взаимодействии с миром и данными.
Но многие музыковеды и сами создатели отмечают: академическая музыка во многом движется по рельсам авангарда Булеза, но радикальных прорывов не видно — идеи о формальной свободе, размытости жанров, поиске чистого звука иногда приводят к тому, что искусство оказывается на грани эстетического тупика. Сам Булез указывал, что необходима не просто “новизна”, а уникальность, создание личных миров и утонченных художественных решений, чтобы преодолеть “шумовую” перегрузку современных практик.
Возможно, большой шаг вперед — это не отказ от наследия Булеза, а поиск баланса между экспериментом и смыслом, между индивидуальной свободой и глубоким диалогом с культурой и слушателем. Музыка будущего строится не только на расширении “лабиринтов новых возможностей”, но и на попытке собрать разрозненные открытия в новое единство — где каждый опыт становится частью глобального музыкального языка, а творчество не уходит в тупик, а ищет новые формы отклика.
В целом, музыкальная теория после Булеза действительно не совершила столь радикальных революций, как те, что произошли в середине XX века благодаря самому Булезу, Кейджу, Штокхаузену и их окружению. Их концепции (тотальный сериализм, alea, отказ от тональности и традиционных форм, интеграция случайности, звуковой материал как первооснова) были настоящими прорывами для своего времени.
Сегодня музыка развилась в ширину, стала максимально технологичной, мультимедийной и интернациональной; появились новые жанры и практики, активно используются алгоритмы, искусственный интеллект, программная композиция, расширение звукового диапазона и тембра. Однако с точки зрения теории именно фундаментальные базовые инновации (новый строй, сериализм, деконструкция формы и функции, радикальный пересмотр авторства и структуры) по масштабу остаются неизменно связанными с эпохой Булеза.
Современный музыкальный язык по большей части опирается на эти же лекала, усиливая их новыми средствами и технологиями, а не кардинально меняя сами основания. Вопрос о «тупике» связан с тем, что новые идеи чаще становятся вариациями или расширением старых авангардных принципов, а не полностью новым «языком музыки». Фундаментальных революций пока не случилось — и это вызывает интересный парадокс: мы живем в мире, сложенным по авангардным чертежам второй половины XX века, с безнадежностью аральских рыбаков пытаясь поймать в разобранном на кварки и мюоны искусстве знакомые символы и сюжеты.
Александр Усольцев
Для Specialradio.ru
Добавить комментарий