Я родился в 1943 году прямо, как поется в песне Владимира Высоцкого, «на Первой Мещанской в конце». Теперь эта улица называется Проспект Мира. Все мои предки – коренные москвичи. Начиная с самых дальних прапрадедов. Моя бабушка владела постоялым двором где-то в отдаленном уголке Москвы в районе нынешней станции метро ВДНХ. Сейчас это почти центр, а тогда была далекая окраина.

Мама перед самой войной получила диплом фармацевта, и в 1942 году ее отправили работать в Монголию, где она и познакомилась с моим будущим отцом. Папа был представителем советской торговой палаты, которая занималась отправкой на фронт военной формы, полушубков, продовольствия и всяких других вещей, необходимых Красной армии. Он постоянно встречал разные делегации, которые приезжали туда с инспекцией или забирать какой-то груз. И со всеми ему приходилось выпивать. Маме всё это очень не нравилось, но поделать она ничего не могла, и вскоре они разошлись. Их брак продержался чуть больше года.
Не знаю, возражал отец против расставания или нет, но когда мама стала собираться обратно в Советский Союз, отец собрал ей чуть ли не вагон всяких дефицитных по тем временам товаров: мануфактуру, швейную машинку, одежду, мыло… Поезд шёл много дней через Среднюю Азию, Урал… Время было тяжёлое, неспокойное, и на каком-то перегоне нас обокрали и утащили почти всё, что собрал отец, но кое-что маме всё-таки удалось припрятать. Вернувшись в Москву, она попыталась найти работу по специальности, но сколько не пыталась, не смогла, и тогда, я уже не знаю почему, отправилась в Ригу, где с работой было получше. Часть вещей, которые удалось спасти, он сумела продать и купила нам в Риге жилье.
Мы ютились в этой квартире втроём – я, мама, моя старшая сестра Лена от маминого первого брака, а потом к нам приехала ещё и бабушка. Жизнь была непростая, мама выбивалась из сил, пытаясь тянуть двух детей. Я целыми днями проводил в детском саду и довольно быстро выучил латышский язык. В это время мама познакомилась с моим будущим отчимом, дядей Лёвой. Он приехал в Латвию из Швеции в конце тридцатых, в Риге у его брата до 45 года был большой бизнес, он был богатым человеком и даже владел огромным домом в центре города, который занимал целый квартал.

По иронии судьбы, когда я впервые женился, то получил комнату именно в этом доме, разделённом на коммуналки. Не знаю, как это получилось, может быть, дядя Лёва не успел уехать, когда в Латвию вошли Советы, или решил, что уживётся с новой властью, но, в общем, он остался. По-русски он практически не понимал, зато хорошо говорил на идише, как и моя бабушка. Мама же наоборот – по-еврейски знала всего несколько слов, предпочитая общаться по-русски. А я – пытался со всеми объясняться на латышском. Вот в такой языковой мешанине я рос. Порой возникали моменты, когда никто никого не понимал, зато со временем я бойко заговорил и по-русски и по-еврейски. Вообще, Рига сороковых-пятидесятых годов вспоминается мне эдаким Вавилоном, где всё перемешалось.
Помню, у меня был приятель Слава Егоров, который тоже жил с отчимом по имени дядя Броня. Это был такой тихий человек, он работал шофёром на огромном черном ЗИМе, возил кого-то чуть ли не из горкома партии, а иногда брал нас со Славкой на пикники. Так вот однажды мы залезли к нему в письменный стол и достали альбом со старыми фотографиями, а там этот дядя Броня стоит в фашисткой форме с поднятой в приветствии рукой: «Хайль, Гитлер!». Спросить, откуда фото, мы не решились.

Мой отчим дядя Лёва был музыкантом, тромбонистом, играл на всяких халтурах, и потихоньку учил музыке меня. Но тромбон был для меня великоват, длинны рук не хватало, чтобы брать все ноты. Тем не менее, он, что называется, «раздул» мне губы и многому научил в плане музыкальных азов, хотя тогда мне это совершенно не нравилось. В 14 лет я устроился на завод «ВЭФ» токарем-операционщиком и так быстро всё освоил, что начал давать две нормы за смену. Старым работягам, которые больше курили и выпивали в подсобке, чем работали, это, естественно, пришлось не по душе, и я оттуда уволился. Но там я познакомился с прекрасным музыкантом Левой Пильщиком. Он тоже работал на этом заводе и уже в то время создал свой ансамбль, с которым я сделал первые шаги на эстраде.
Мы оба понимали, что хотим связать свою жизнь со сценой и поступили в музыкальное училище, где, правда, долго не проучились – нас выгнали за постоянные халтуры. Педагоги не терпели, когда студенты выступают где-то за деньги, а тем более, не выносили тот репертуар, что мы играли – западные хиты. Рос я непоседливым, бойким и ещё в школе познакомился с ребятами, с которыми стал ходить в порт, где стояли пришвартованными иностранные суда. Там мы встречались с моряками и туристами, продавали-меняли всякие дефицитные вещи, одежду, сигареты, косметику и, конечно, пластинки. Я знаю, что в России это называлось фарцовкой, а у нас почему-то «штелла», что-то типа «мулька» по-русски.

Параллельно я частенько выступал с ансамблем Пильщика, а в самом начале шестидесятых вместе с группой «Комбо» прошел конкурс на работу в самом модном ресторане Юрмалы тех лет – «Лидо». Это был сезонный ресторан, открытый только летом, в пик курортного сезона. Он находился прямо напротив зала «Дзинатари», где сейчас проходит «Новая волна» и другие концерты. Весь цвет советской богемы приходил туда. Кстати, там я впервые встретился с Савелием Крамаровым. Он сидел за столиком, а я – пел на эстраде. На мне был надет какой-то жутко модный пиджак, который я купил у иностранцев. Сава весь вечер смотрел на меня, не отрываясь. Вернее, даже не на меня, а на этот козырный клифт. Через полчаса он не выдержал и прислал какого-то гонца с предложением продать пиджак. А он был страшный шмоточник, очень любил хорошо одеваться. Я – в отказ. Он – за своё. Потом сам подошел. Мне совершенно не хотелось продавать эту модную вещь, я ещё и сам не успел ей насладиться. Но Сава просто мертвой хваткой вцепился в меня – целую неделю, как на работу, приходил в «Лидо» и гипнотизировал меня. В итоге я сдался и уступил-таки ему этот пиджак. Крамаров был счастлив. С того дня мы подружились.

Как-то раз в ресторан пришел Юрий Саульский с конферансье Гарри Гриневичем, послушали, как я пою, и предложили мне приехать в Москву на прослушивание. Такой шанс я упускать не стал и с радостью согласился. Это было лето 1967 года. Вскоре я прибыл в столицу и поселился в гостинице где-то в районе Останкино. Моим соседом по номеру был известный в будущем саксофонист Владимир Ткалич. Его инструмент звучит на моих первых альбомах и альбомах двух Миш – Шуфутинского и Гулько. В молодости Володя был невероятно толстый. Когда он открыл мне дверь с огромной тряпкой в руках, я решил, что он хочет постирать занавески, а оказалось, что это его трусы. Позднее его тоже возьмут в коллектив, и он станет расписывать партитуры музыкантам.
В Москве у меня было немного знакомых, и я решил позвонить Савелию Крамарову. Он очень обрадовался, тут же примчался ко мне на своем «жуке»-фольксвагене, и мы поехали кататься по городу, Сава решил показать мне Москву. Всё было хорошо, пока прямо на Садовом кольце, неподалеку от гостиницы «Пекин» мы не заглохли. Тогда же не было ни мобильных, ни экстренной помощи на дорогах. Что делать? Кого просить помочь? Но я, как оказалось, переживал напрасно. Стоило Саве выйти из своего автомобиля, как все проезжавшие мимо водители стали останавливаться. Они сразу узнали его! Сава был в то время уже очень популярен. Вокруг нас собралась огромная толпа, и кончилось всё тем, что люди на руках отнесли «жук» Крамарова к обочине.

Три месяца я готовился к прослушиванию. Мне предстояло спеть несколько песен и обязательно хотя бы одну на русском, но с этим у меня была беда, ведь я как музыкант развивался в Риге, городе абсолютно не советском по духу, и в моём репертуаре была только “фирма”, я советских песен не пел вообще. Пришлось мне разучивать песенку на стихи Михаила Танича «Моряк в развалочку сошёл на берег». Выступление моё понравилось, и я был зачислен в вокальную группу нового ансамбля «ВИО-66». Вместе со мной там оказалась всем известная Валя Толкунова, Жора Мамиконов, будущий создатель группы «Доктор Ватсон», Тамара Джиба, Олег Ухналев и другие ребята. Валя вскоре стала женой Саульского.

Юрий Сергеевич был человеком невероятно эрудированным. Он блестяще знал историю джаза, досконально разбирался в музыке, и сам был музыкантом от Бога. Мне рассказывали историю, как в начале шестидесятых они с Михаилом Таничем сидели с кем-то в баре Союза композиторов и поспорили, что за 15 минут сочинят хит. И представьте себе, пари они выиграли. Так родился знаменитый «Черный кот». Саульский интеллигент был высшей пробы, как говорится. Навсегда запомнил его жест: он дирижирует и всё время поправляет пальцем очки. Общение с ним было праздником, как в дальнейшем и с Олегом Лундстремом. Но, надо понимать, что мы в обычной жизни почти не пересекались. Да и на гастролях музыканты всегда были отдельно, а руководство – отдельно. В ресторане они всегда сидели за другим столиком и общались больше между собой. Во время репетиций, концертов вели себя неизменно вежливо, корректно, по-джентльменски, я бы сказал.

Москва того времени вспоминается мне, как город, где не прекращался праздник. Если мы не были на гастролях, то все вечера проводили в ресторанах. Устраивали сейшены, ходили в ресторан Дома кино слушать знаменитого саксофониста Леонида Геллера. Кстати туда меня впервые привел Крамаров и познакомил там с танцором из ансамбля Моисеева Витей Дроздовым, он потом иногда подрабатывал, участвуя в наших концертах. Позднее Витя ввёл меня, так сказать, в московскую тусовку, познакомил с Галей Брежневой, с популярным тогда композитором Гариным, которого потом при загадочных обстоятельствах убили в Сочи, и всякими другими известными личностями. Помню, однажды мы пришли в кабак вместе с Наташей, моей будущей женой, и на ней был шикарный белый плащ, на который тут же запала Галя Брежнева и начала торговаться. Наташа согласились продать его, Брежнева плащ взяла, а деньги не отдала. Она кстати частенько так поступала, не только с нами.
Ездили в загородные рестораны, в «Сказку», «Русь»… Атмосфера была прекрасная, все общались, радовались жизни, люди вокруг были хорошие, открытые, щедрые… Я с удовольствием вспоминаю Москву семидесятых. После нескольких лет работы у Саульского, в 1971 году, я ушел в «Поющие сердца» к Виктору Викштейну, который только-только собрал команду под крышей Тульской филармонии. Я оказался там одним из первых вместе с певцом по фамилии Офицеров, клавишником Юрой Аветисовым и бас-гитаристом Аликом Грановским. Это был уже другой коллектив, с другим звуком, более современным. Ведь «ВИО-66» Юрия Сергеевича был джазовым, а мне хотелось исполнять музыку актуальную, модную.

Я пел репертуар Рэй Чарльза, итальянские песни, пел Тома Джонса, это вообще был мой конек. С «Поющими сердцами» я не протянул и года, потому что после Саульского, с которым мы работали на больших центральных площадках, мне было тяжело ездить по всяким мухосранскам, где не было ни приличных гостиниц, ни нормальных ресторанов. Я не выдержал этого и пошел на прослушивание в оркестр Лундстрема. Кстати, на прослушивании я спел песню Тома Джонса, после которой музыканты оркестра встали и начали мне аплодировать.
Олег Леонидович Лундстрем, как и многие музыканты его оркестра, приехал в СССР после долгих лет проведенных в эмиграции в Харбине. И хотя наша встреча состоялась спустя много лет после его возвращения, заграничный лоск в нем оставался и чувствовался во всём: в манере одеваться, держаться, разговаривать… Человеком он был не просто интеллигентным, а, можно сказать, утончённым. Неизменно любезен, выбрит, благоухает дорогим одеколоном. Аристократ, одним словом. Нормой было 11 концертов в месяц. На первые гастроли мы отправились в Сочи. Мой номер был прямо напротив номера Эдиты Пьехи и ее тогдашнего супруга Александра Броневицкого. Ночью я не мог заснуть, потому что они сильно скандалили. Оказалось, Броневицкий приревновал жену к Поладу Бюльбюль оглы.
Вместе со мной у Олега Яковлевича Лундстрема начинал и Слава Антонов. Сегодня его все знают как композитора Вячеслава Добрынина, но это его псевдоним, и взял он его, когда начал сочинять песни, потому что к тому времени уже набирал популярность другой Антонов – Юрий. Когда обязательных выступлений не было, мы могли выезжать на какие-то халтуры и подрабатывать. Потому что официальная ставка у меня была 8 рублей – не разгуляешься. Могла быть и больше, но на очередном прослушивании кому-то из комиссии не понравилось, что я западные песни исполняю лучше русских народных.

У Лундстрема я проработал года два, пока в один прекрасный день ко мне не подошел Слава Антонов и не предложил пойти прослушаться в «Самоцветы» к Маликову. В итоге, меня в «Самоцветы» взяли, а его – нет. Но еще раньше я ходил на прослушивание в «Веселые ребята» к Слободкину. Тогда вместе со мной был еще Александр Градский. И его, кстати, тоже не взяли. В общем, у меня появился выбор, и хотя в «Веселых ребятах» работали прекрасные ребята, мои друзья – Леня Бергер, Леша Лосев – я всё-таки выбрал «Самоцветы». А на моё место в оркестр Лундстрема пришла Алла Пугачева.
Название ансамбля – «Самоцветы» – было придумано кем-то из радиослушателей, потому что перед созданием ВИА был объявлен конкурс. Там я проработал больше трех лет. И это был большой успех. Стоило нам выйти из гримуборной, толпа фанатов подхватывала и на руках несла к машинам. А в 1975 году даже вышла пластинка в Германии с моей песней «Если будем мы вдвоем». Диск был маленький, сорокопятка, но назывался «Лучшие ансамбли мира», и там вместе с «Самоцветами» были включены песни «Битлз» и ещё каких-то мега-популярных тогда групп. Мы много ездили по гастролям, бывали и заграницей.
Сейчас меня часто спрашивают, была ли конкуренция между ВИА в то время. Я такого, откровенно говоря, не припомню. Работы хватало всем. Часто выступали вместе в сборных концертах. Мы очень дружили с ребятами из белорусской группы «Песняры», да и с другими нормально ладили, по крайней мере, никаких конфликтов я не помню. Коллектив был дружный, мы всё время друг друга подкалывали, разыгрывали.

Особенно популярны были всякие приколы во время «зеленых» концертов – так на музыкальном сленге называется последний концерт в турне. То мы прятали за кулисами трубу одного музыканта, который должен был солировать в проигрыше, то нарочно играли мимо нот, то я вытаскивал на сцену настоящий контрабас, то заклеивали пластырем клавиши на фортепиано. В одном из номеров я по сценарию кидал за кулисы бубен, и мы договорились, что когда я кину, другой музыкант ударит ногой по железному листу. Ну, вроде бы, что мой бубен вызвал такой шум. Я бубен кинул, но не рассчитал силы. Грохот раздался такой, что вместо смеха в зале случился настоящий переполох. Людям показалось, что произошёл взрыв. В другой раз мы выступали в Якутии, и наш конферансье, мой однофамилец Раф Могилевский, накупил там дефицитной японской посуды и упаковал ее в чемоданы. И мы, желая пошутить, в одной сценке взяли вместо бутафорского чемодана его багаж с посудой, ну и, конечно, всю посуду ему переколотили.
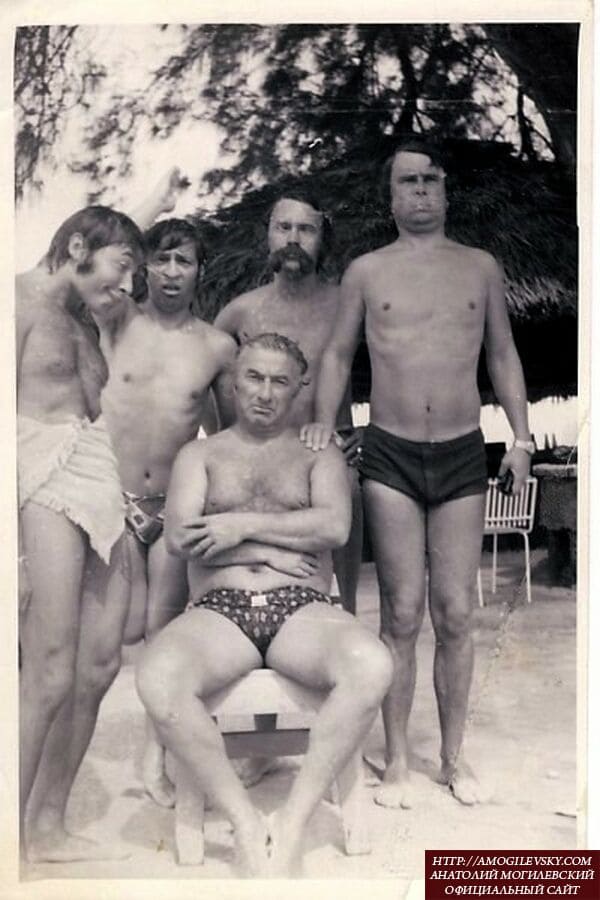
А ещё раньше, во время моей работы с Саульским, мы всё время разыгрывали барабанщика Володю Журавского, порой весьма жёстко. Он сидел со своими барабанами выше всех, вплотную к занавесу и в тот момент, когда он делал какую-то длинную, сложную сбивку, кто-то воткнул ему в мягкое место булавку через занавес. Конечно, весь оркестр сразу сбился с такта. И это было, наверное, единственный раз за всю карьеру Саульского. Надо отдать должное профессионализму Юрия Сергеевича, он моментально взял ситуацию в свои руки, просчитал такты и вернул музыкантов в русло мелодии. Кто сделал эту пакость Журавскому мы так тогда и не узнали. Володя Журавский и музыкант был прекрасный и парень замечательный. Он трагически погиб в той авиакатастрофе вместе с пародистом Виктором Чистяковым и другими артистами. Я никогда не рассказывал этого, но мы же вместе с Олегом Ухналевым и Левой Лещенко опоздали на тот рейс.
В «Самоцветах» всё шло хорошо, но мы всё равно мечтали петь западную музыку, хотя и у нас были свои хиты – «Мой адрес Советский союз», «У деревни Крюково», «Увезу тебя я в тундру». Но нам казалось, что мы очень крутые и что мы вправе требовать исполнять то, что нам нравится. Мы, наверное, не понимали до конца, что ансамбль такого уровня – это номенклатурная единица, и мы просто обязаны исполнять советскую песню. А нам казалось, что Маликов нам не даёт это делать, ограничивает нас, связывает как-то. Хотя, конечно, он был и остается человеком умным и блестящим руководителем. Но я был молодой, неопытный, к тому же мутили воду некоторые музыканты, в особенности барабанщик Саша Раппопорт и вокалист Сережа Березин. В какой-то момент я дрогнул и поддался на их уговоры. А тут ещё на одной из репетиций вспыхнул скандал, и мы все заявили Маликову, что не хотим видеть его руководителем.

Он нас выслушал и так спокойно говорит: «Не хотите – пожалуйста. Кто желает, пусть остается, кто нет – уходит». Тогда, насколько я помню, ушли почти все, кроме Ирины Шачневой. В «Москонцерте» вспыхнул страшный скандал. Собирались какие-то специальные комиссии, нам даже угрожали. Но мы были непреклонны и при этом уверены, что название-то «Самоцветы» нам наверняка оставят, но Маликова с нами больше не будет. Однако, в «Москонцерте» рассудили иначе: «Юрий Сергеевич создал этот коллектив, и мы ему доверяем. Он в любом случае останется руководителем». И мы, идиоты, вместо того, чтобы прислушаться, обсудить ситуацию, упёрлись.

Тогда в «Москонцерте» сказали: «Ок, из ансамбля вы можете уйти, и так как вы все состоявшиеся музыканты, мы даже не уволим вас, а позволим создать что-то своё. Делайте!». И мы собрались где-то все вместе с Раппопортом, Березиным, Петерсоном и придумали это название. Было ли это в шашлычной или где-то ещё, я теперь не скажу, не помню.
В ансамбле «Пламя» я провел около года, а потом принял решение об эмиграции. Несмотря на заграничные гастроли, (а я побывал за годы своей профессиональной карьеры в СССР и во всей Восточной Европе, и в Латинской Америке), на обожание фанатов, наличие всех мыслимых для советского человека благ в виде машины, квартиры в центре и импортной одежды в гардеробе, хотелось чего-то большего. Творческого роста, как ни пафосно это прозвучит. Хотя, скажу откровенно, я не питал иллюзий относительно возможности сделать карьеру на Западе, стать частью американского шоу-бизнеса. Мои друзья, которые уехали раньше писали мне в письмах, что это практически нереально. Единственное исключение – Лёня Бергер – только подтверждает это правило. Но, тем не менее, я был уверен, что смогу продолжать и там зарабатывать себе на достойную жизнь творчеством.

Перед отъездом в Америку я ушел из ансамбля «Пламя», чтобы никого не подставлять и устроился на работу в ансамбль ресторана интуристовской гостиницы «Националь», он назывался «Звёздное небо». Это было удобно, потому что мы жили неподалеку, на Неглинке. В «Национале» играл оркестр под руководством некоего Олейникова. Он знал, что я собираюсь эмигрировать и все время меня отговаривал: «Куда ты едешь? Что ты там забыл? Чем ты собираешься заниматься в этой Америке?». Но кончилось всё тем, что он уехал вместе со мной.
Буквально на следующий день после приезда в Нью-Йорк я уже вышел на сцену русского ресторана «Садко» на Брайтон-Бич. Там я пел в выходные, а в будни выступал в клубе на Манхэттане, где исполнял не русские песни, а интернациональный репертуар.

Первую неделю я пел только итальянские песни, позднее стал включать и русские вещи. Вместе со мной там выступали люди со всего света: греки, испанцы, румыны, португальцы… За каждый вечер исполнял по четыре-пять песен. Этот клуб славился тем, что туда часто заглядывали музыкальные продюсеры, директора радиостанций, менеджеры, связанные с кино. Они подбирали себе нужные голоса певцов из разных диаспор.
Однажды я получил там контракт на исполнение русской песни в каком-то фильме. Я взял с собой своего земляка-рижанина Гришу Диманта. По сюжету картины русские космонавты должны были высадиться на Луне, а оказались в пустыне Сахара. И вот они идут по песку, а мы с Гришей Димантом поем: «Полюшко-поле, ох, оно широко поле…». Вышел этот фильм на экраны или нет мне неизвестно. Однако, не всё было гладко. На Брайтоне в конце семидесятых было всего три русских ресторана: «Садко», «Баба-Яга» и «Одесса», а ещё был ресторан «Балалайка», который открыл известный в Союзе исполнитель еврейских песен Эмиль Горовец.

Этот кабак находился на Манхэттане. Артистов в третьей волне было немало. Мест на всех не хватало. И, например, известный сегодня певец и шоу-мэн Миша Боцман и вовсе начинал как уличный музыкант. Он с несколькими приятелями пел, просто стоя на бордвоке (набережная-авт.). Первой начала выступать в ресторане «Балалайка», а позднее – в «Садко» Майя Розова. Мы знали друг друга ещё до отъезда. Вместе с Майей и ее мужем Аликом Шабашовым мы учили английский язык в Москве и тогда договорились, что кто первый устроится подтянет остальных. Они уехали на три месяца раньше нас, и Майя писала, что нашла место в «Балалалайке». Это обнадеживало.
Путь в Штаты тогда был длинный. Сперва – Австрия, потом – Италия. У меня была возможность остаться в Риме и работать музыкантом там, но тянуло в Америку, и я отказался от весьма неплохого предложения. Как только я приехал в Нью-Йорк, отправился на прослушивание в «Садко» и был сразу принят. К тому времени там же уже пела Майя.

Видимо, в какой-то момент она почувствовала во мне конкурента, потому что публика принимала меня очень тепло. Майя в ту пору начала встречаться с вором в законе по имени Евсей Агрон. Он уже в то время ходил с охраной, такой крутой чувак. Я о нём ничего не знал и кто он такой понятия не имел.
В это время нам вдвоём предложили сделать концерт в Нью-Джерси. Предложили работать вдвоём, но когда вышла реклама, то звучала она так: «Майя Розова и её оркестр». Увидев это, я подошел к ней и говорю: «Майя, я не в твоем оркестре. Я самостоятельный певец. Или меняй афишу или я работать не буду». Она отказалась, и я на этот вечер не пошел. Но концерт и так прошел хорошо, потому что таких мероприятий в общине тогда было мало, и люди соскучились по песням. На следующий день после концерта Майя пришла к хозяину ресторана и заявила: «Я с Могилевским работать не буду, выбирайте – или он или я». Хозяин на дыбы: «Здесь я решаю, кому петь! Хотите уйти – скатертью дорога». И я начал работать там с Мариной Львовской.

Всё было классно до тех пор, пока хозяева не купили ещё один ресторан, и я стал петь там. Но к ним в долю вошел Евсей Агрон. И тогда он поставил им условие – убрать Могилевского. Как я говорил, ресторанов с музыкой тогда было немного, и мне пришлось уйти в такси. Меня, к счастью, не грабили и не грозили убийством, как Вилли Токареву, но убегали и кидали частенько. Около года я крутил баранку как таксист, а потом неожиданно раздался звонок от Евсея: «Толя! Тут появился новый кабак “Fiddler on the roof”, Майю зовут туда петь, давай забудем старые обиды, приходи туда же, вы так здорово вместе смотрелись на сцене…». Подумав, я согласился, и мы стали там первыми в эмиграции не просто исполнять песни со сцены, а делать настоящие шоу-программы со сменой костюмов, соответствующим репертуаром.

Народ валом туда повалил, ведь никто раньше ничего подобного не предлагал. Молва стала передаваться из уст в уста, и мне поступало одно предложение за другим. В конце концов, я ухожу в «Националь», который открыл Марик Гном. Там я проработал довольно долго, и там произошло много всяких интересных событий. Ну, скажем, в 1984 году Пол Мазурски снимал одну из сцен своей знаменитой комедии «Москва на Гудзоне», где, кстати, помимо меня снимались очень многие звезды эмиграции: Миша Шуфутинский, Алик Шабашов, Таня Лебединская, ее брат Игорь, импресарио Пол Давидовский, который в том же, 1984 году, делал в Штатах концерты Алеши Димитриевича, актер Илья Баскин и, конечно же, мой любимый Сава Крамаров.
Первый свой диск «Разбитое сердце», его иногда ещё называют «Васильковая канва», по одной из песен я делал с Толей Днепровым. Он умудрился в багаже провезти пленки с «минусовками» своих песен, которые были записаны оркестром Юрия Силантьева. Мы продали, может быть, процентов 30% тиража, а остальные диски много лет пролежали у меня на чердаке, пока я их просто не выкинул. Зато сейчас на э-бей они стоят по 100 долларов.

Следующие два альбома я делал с Мишей Шуфутинским. Он тогда работал в «Жемчужине», а потом в «Парадайсе» у Валеры Земновича. После успеха моих альбомов «У нас в Одессе это не едят» и «Я Вас люблю, мадам» я был, что называется, нарасхват. Проведя несколько лет в «Национале», я перешел в ресторан «Escape» в Квинсе, названного в честь известного кинофильма восьмидесятых годов, и там у меня появилась возможность собрать свою группу музыкантов, которую я назвал «Амадеус». Я приглашал профи высочайшего класса – гитариста Игоря Северского, победителя многих фестивалей гитарной музыки и в частности «фламенко», басист Ларри Рассел – раньше работал с Билли Джоэлом, клавишником стал экс-участник польской группы «Скальды» Анжей Зелинский, барабанщик Алан Диаз из группы короля босса-новы Сержио Мендеса. Еще была певица Лиза Вудсток и испанец, который потрясающе играл на маракасах и конгах.

Прежде чем за барабаны сел Алан Диаз случилась целая эпопея. Первым, кого я взял играть на ударных, был американец. Играл он классно, но, как выяснилось позже, был наркоманом. Несколько раз он заявился на репетицию под кайфом, и я его уволил. Потом у меня появился другой музыкант, тоже американец, который ночью лабал в клубах, а днем работал в департаменте по выдаче лицензий на торговлю алкоголем. А наш ресторан «Эскейп» только открылся, и они продавали водку без разрешения. Случилось так, что после одного конфликта я этого барабанщика тоже уволил. Он оскорбился, пообещал отомстить и неделю спустя натравил на кабак полицию. Была облава, всех гостей выгнали на улицу и, обнаружив отсутствие лицензии, ресторан закрыли и выписали крупный штраф.
Тогда я со всей командой ушел в «Мираж» и «Мираж» загудел. Вся публика переметнулась сюда. Но владельцы решили перестроить здание и сделать из обычного ресторана «Мираж» шикарный ночной клуб «Распутин». Чтобы не распускать группу, я принял решение уехать в Чикаго поработать в ресторане Лёвы Доллара. Он занимался крупным бизнесом, не всегда легальным, и в какой-то момент его накрыли. Так, в начале девяностых я ушел в «Европейский», который находился в Бруклине, но не Брайтон-Бич.

Скажу без ложной скромности, с «Амадеусом» мы делали шоу реально мирового уровня, в зале яблоку было негде упасть. Такой команды в эмиграции не было ни у кого, разве что Марк Иммерман делал группу «Ригонда», привлекал чернокожих музыкантов, но из-за пристрастия к наркотикам он рано умер. Однако, как бы здорово всё не шло, но всё рано или поздно заканчивается. В середине девяностых я по семейным обстоятельствам перебрался в Лос-Анджелес и работал там в ресторане «Тройка».
Время менялось. Живая музыка стала не нужна в ресторане, всё заменили «самоиграйки». Я стал чаще ездить с гастролями в Россию, по-прежнему записывал альбомы и продолжаю делать это и сегодня. Недавно я снова переехал из Лос-Анджелеса в Майями. Сейчас я обустраиваю новый дом, а как только всё встанет на свои места, буду заканчивать свою книгу мемуаров, которая, надеюсь, в скором времени выйдет в России.

Спасибо за любовь к моим песням.
Искренне ваш, Анатолий Могилевский.
ДЛЯ SPECIALRADIO.RU
март 2017
Материал подготовил Максим Кравчинский (www.kravchinsky.com)
фото с сайта Анатолия Могилевского и Максима Кравчинсского
Ссылки по теме
Канал на Youtube Анатолия Могилевского
Видео
6 сентября, 2017
С интересом прочитал воспоминания Анатолия Могилевского. Но, ведь что еще интересно, в диалог с Анатолием Могилевским вступила Майя Розова – одна из участниц тех событий. Ее материал опубликован на сайте: http://www.liveinternet.ru/users/4229746/post418977874/. В статье Майи Розовой, представленные Могилевским события, видятся в другом свете.